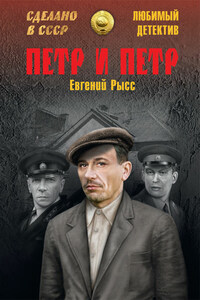Глава первая
Четыре братика
Был такой разговор или его не было? Во всяком случае, ни я, ни Юра его не помним. Один Сергей говорит, что разговор был. И очень тревожный. И будто бы даже какие-то подозрения у нас возникали. Не знаю. Мы с Юрой этого не помним. Во всяком случае, Петра мы не видели девять лет. Это уж совершенно точно.
И это, между прочим, было прямое нарушение договоренности. Условлено было всем четверым обязательно встречаться один раз в году, где б мы ни оказались, хоть в тысячах километрах друг от друга. Каждый год 7 сентября мы встречаемся – и все! Правда, когда мы условились об этом, нам всего-то было по пятнадцати лет. Приблизительно по пятнадцати. Никто из нас не знает точно своего возраста. Нас, всех четверых, подобрали в прифронтовых разоренных районах солдаты разных воинских частей в сорок втором году. На глаз нам было года по два, по три. Может быть, немного больше или меньше. Наверное, были мы очень истощенные и худые. Фронт, как известно, не лучшее место для малолетних детей. Мы-то сами ничего не помним о том, кто нас подобрал, где и при каких обстоятельствах. Знаем это только по рассказам. Так или иначе, достоверно известно, что попали мы сперва в Дом младенца, хотя были уже, строго говоря, не в младенческом возрасте. Во время войны с такими вещами не считались: где можно ребенка накормить, где есть кому с ним возиться, туда и отдавали его хоть временно, хоть ненадолго.
Конечно, никто из нас не помнит своих родителей. Правда, Юра говорит, что он будто бы помнит. Не думаю. Скорее всего, какая-нибудь нянечка рассказывала ему про маму, вот он и думает, что помнит. Достоверно начинали мы помнить себя лет в пять или даже в шесть. В это время в нашей жизни уже существовал Афанасий Семенович.
Он был директором детского дома, в котором мы выросли. Директор он замечательный. Это все знают. Но для нас он был не только директором. Благодаря ему никто из воспитанников детского дома, а нас как-никак было больше ста человек, не почувствовал по-настоящему, что у него нет родителей. Тогда, в первые годы после войны, много было изломанных человеческих судеб, и как Афанасий Семенович бился, чтобы судьбы эти не легли тенью на нас, подраставших в те годы. Во всяком случае, мы, четверо, многим ему обязаны. Хотя и строгим бывал он ужасно. Иной раз так на кого-нибудь рявкнет, что весь дом затихает. Но зато каждый вечер, как бы он ни устал, как бы ни измотался, обязательно пройдет по спальням и каждому, ну буквально каждому, скажет два-три слова, погладит по голове, одеяло поправит.
Нас он называл «братиками». Мы четверо прибыли в детский дом вместе. Он сразу нас так и назвал. На самом деле мы, конечно, братьями не были, нас и подобрали-то всех в разных местах, при разных обстоятельствах.
Уж не знаю, бывают ли такими дружными настоящие братья, какими были мы. Мы и учились в одном классе, и уроки вместе готовили, и гуляли вместе, и секреты были у нас общие, и планы мы строили сообща – словом, росли удивительно дружно.
В один день получили мы аттестаты и все вместе поехали в С. Афанасий Семенович посоветовал нам поступать в вузы. Он нас почему-то считал способными, хотя в школе мы учились не очень уж хорошо. Как ни странно, но трое из нас действительно прошли по конкурсу. Юра держал в индустриальный институт и попал, Сережа – в университет на биофак, а я – на журналистский. Только Петьке не повезло. Он тоже держал в индустриальный, но не прошел. Одного очка не хватило. Конечно, мы были очень огорчены. Уговаривали его позаниматься год и держать еще раз, но Петька не захотел. То ли характер у него слабым оказался, то ли обидно было ему, что мы трое прошли, а он один почему-то вдруг не прошел.
Сейчас, конечно, поздно и не к чему в этом разбираться, хотя во всяком экзамене случай играет большую роль, и очень может быть, что просто нам троим повезло, а Петьке не повезло. Но недаром Афанасий Семенович всегда говорил, что надо суметь переупрямить случай.
Впрочем, не нам судить. Если тебе повезло, легко осуждать неудачника. Так или иначе, а тогда мы трое оказались друзьями больше на словах, чем на деле. Ахали, ужасались, сочувствовали. А думал каждый больше о том, что он, мол, уже студент, чем о том, что у Петьки вышла осечка.
В оправдание могу сказать только одно: в то время мы все трое были, по-моему, немного сумасшедшие. Мы и переутомились: это не шутка – готовиться к конкурсу, Мы и переволновались: пройдем или не пройдем? Да, наконец, честно сказать, мы и ошалели от радости, когда оказалось, что прошли. Так или иначе, как мы ни волновались за Петьку, как ни горевали за него, а все-таки у каждого в душе плясал радостный чертик, плясал и пел: «А я-то прошел, я-то прошел!»
Петька, наверное, этих чертиков наших слышал, и от этого ему, наверное, было еще обиднее. Во всяком случае, он нам сказал, будто какой-то парень очень его в Энск зовет. Там, мол, на заводе у этого парня отец работает, и он, мол, Петьку охотно устроит на завод и с общежитием поможет, а временно, пока с общежитием устроится, парень предлагает у него пожить.
Если кому-нибудь рассказать подробно, как мы с ним простились, получится, что нас не в чем упрекнуть. Хоть с деньгами у нас было плохо, все-таки, сложившись, купили мы ему на память замечательную зажигалку. Ее продавал один парень с биологического. Отец этого парня в свое время привез зажигалку с войны. Я таких зажигалок больше за всю жизнь не видел. Там был изображен человек, который направлял на кого-то револьвер. Если зажигалку положить, оказывалось, что лицо человека закрыто черной маской. Возьмешь зажигалку в руки, и опять лицо как лицо, никакой маски нет. Черт его знает, как это было устроено. Наверное, нехитрая штука, но интересно.