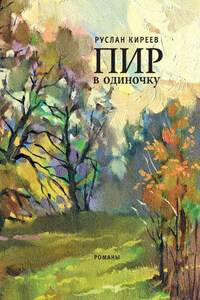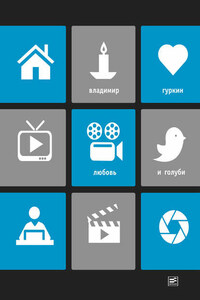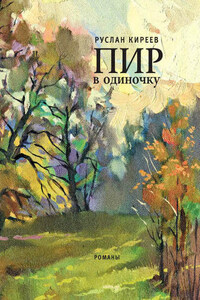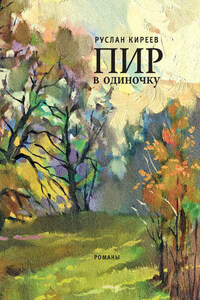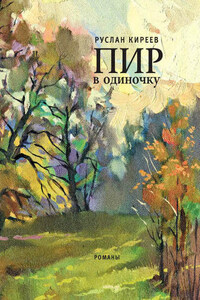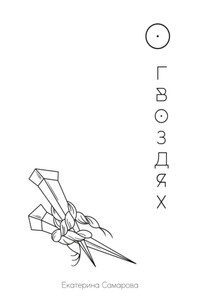Светлой памяти моей бабушки Ангелины Ивановны Рубинштейн
Зима была слабой, вялой, уже в феврале понабухали почки, а в марте, в середине марта, зазеленела верба. Из-под снега островками проступила земля, пока еще без единой травинки, сырая, грязная, и скоро освободилась вся, только в укромных уголках, куда не дотягивалось солнце, желтели ноздреватые кучки. К-ов исхитрился даже позагорать в лесу – не раздеваясь, разумеется, в пальто и кепке. Собственно, загорало лишь лицо, купалось в еще не жарких, в еще не припекающих, но уже теплых лучах. Устраивался на пеньке или поваленном дереве, под ногами же был плотный, слежавшийся ковер из прошлогодних листьев, среди которых можно было обнаружить, если приглядеться, сгорбленный стебелек будущего цветка. Весна! Настоящая весна!
Настоящая? А где бабочки, где пчелы, где трава или одуванчики? Не случайный стебелек, сам напуганный своей дерзостью, а пятнистый цветной ковер? Нету. Потому-то, наверное, чуть-чуть искусственным казалось тепло, оранжерейным. Будто выйдешь сейчас наружу – и опять заметет все, завоет, запорошит.
Так и случилось. Обманный день первого апреля начался с солнышка, потом небо заволокло, налетел ветер, и в полдень повалил снег. В комнате потемнело. К-ов зажег настольную лампу и, с пером в руке, рассуждал о прозе, которую про себя называл поздней.
Вообще-то, понимал он, рассуждения подобного рода уместней все-таки скорей осенью, нежели весной. Ибо человек, пишущий человек, обычно приходит к поздней прозе на склоне лет, когда в его распоряжении остается не так уж много времени и жаль тратить его на пустяки.
Как правило, это не беллетристика. Это бесхитростное и внешне незатейливое повествование о том, что сам видел и сам пережил. Повествование, да не всякое… «Исповедь» Руссо, например, которая по всем внешним параметрам должна вроде бы служить эталоном поздней прозы, ею тем не менее не является. Слишком замутнена она раздражением, особенно в заключительных главах. Слишком пространен счет обид, который выставляет судьбе и людям памятливый автор. В таком состоянии – состоянии войны – ясной и тихой книги не напишешь. Так же как не напишешь ее, упиваясь изощренностью своего глаза. Прустовская эпопея, нанизавшая на автобиографический шампур изумительно сочные куски утраченного времени, – это, что ни говори, феномен не столько духовный, сколько эстетический. Что само по себе не недостаток и не достоинство. Качество…
К-ов прекрасно отдавал себе отчет в том, сколь высоко можно качество это ставить. Но лично он, восхищаясь тем же Прустом, начинал мало-помалу уставать от буйства красок, от обилия оттенков и цветов. Как всякий пир, этот пир способен вскружить голову, но способен и утомить, в то время как поздняя проза никогда не роскошествует. Лишь необходимым довольствуется она. Минимум фантазии. Минимум фабулы. Ей, поздней прозе, с которой человек, в общем-то, уходит из жизни, скучно упаковывать себя в прокрустово сюжетное ложе. Скучно рядиться в маски вымышленных героев. Ни интрига, ни живость изложения – качества, столь ценимые в беллетристике, – не являются для жанра, черты которого К-ов набрасывал под снежную круговерть за окном, качествами определяющими.
Что же, спрашивал он себя, является? По-видимому, способность автора ощутить самодостаточность и самоценность мира, не нуждающегося в какой бы то ни было санкции. Высшего ли разума… Философской ли доктрины… Бог если и присутствует в нем, то не как своего рода главный администратор, а на равных со всем остальным – деревом, муравьем, человеком… Ну и собакой, конечно, что, положив морду на лапы, терпеливо ждет, когда хозяин выведет ее на улицу.
К-ов поднялся. В тот же миг она была на ногах и, вся напрягшаяся, взъерошенная, неотрывно и страстно смотрела ему в глаза. Он медленно одевался, медленно зашнуровывал ботинки, а она следила за ним не шевелясь, и лишь когда он протянул руку за поводком, сорвалась с места. Коготки щелкнули о паркет, она поскользнулась, но не упала (а такое случалось), удержалась и на радостях запрыгала и завертелась еще пуще. К-ов открыл дверь.
Уже немело, все успокоилось. Легкий пушистый снег высоко лежал на деревьях и заборах, на мусорных бачках, на скамье у подъезда, на детских качелях… Было очень светло – он задрал даже голову: нет ли луны? Луны не было, зато фонари словно прибавили яркости и при этом как бы вытянулись.
Собачьи лапы глубоко и по-детски раскоряченно утопали в снегу, а ополоумевшая от счастья бессловесная тварь еще и нос в нем зарывала, и фыркала, и мотала ушастой головой. Хозяин отпустил ее, а сам медленно огляделся, один, среди возвратившейся зимы, но возвратившейся, понимал он, ненадолго, на день или два. Вот только чувства, которые он испытывал, были скорей надеждой, скорей ожиданием и предвкушением, нежели прощанием.
Чего ждал он? Что предвкушал и на что надеялся? Он был уже немолодой человек (возраст поздней прозы), а сейчас, в зимнем длиннополом пальто и потертой, надвинутой на лоб шапке, выглядел (если б кто-то мог видеть его) и вовсе стариком, но возвращение снега ободрило его, хотя, выросший на юге, не снег любил он, а солнце, не зиму, а лето. Видимо, сама возможность возвращения веселила дух. Что-то еще, подумал он, да будет в жизни. Пусть недолго, пусть слабо, как эта краткая, на одну ночь зима, но – будет. Еще незнакомая женщина улыбнется ему в окне отъезжающего автобуса… Еще напишется страница, за которую не придется краснеть…
Света в большинстве окон не было, чернели мертво, но некоторые еще горели, а в одном на фоне желтой шторы раз или два мелькнула тень. К-ов осторожно протянул руку к дереву, коснулся пальцем снежного пуховичка, и тот протаял насквозь.
Собака рывком подняла голову. Часть снега слетела с морды, а часть осталась, и это придавало ей озорное, смеющееся выражение. Точно щенок проснулся в старом, большом, больном псе – с одышкой, как у человека, и храпом по ночам. «Ну что?» – сказал хозяин, и собака, возликовав (с нею заговорили!), припала на передние лапы, а хвост бешено заходил туда-сюда.
Сколько лет оставалось им жить на свете? Никто из них не думал сейчас об этом, не боялся и не заботился. Человек зачерпнул горсть снега и бросил в животное. Собака шустро отпрыгнула в сторону, потом в другую, и еще, еще, но все молча (в детстве подобные выкрутасы сопровождались тявканьем), а он опять сделал снежок и опять швырнул в нее, и тоже молча. Так играли они вдвоем среди ночи, без единого звука, и, наверное, поэтому ему вспомнится позже, когда, вернувшись домой, разойдутся по своим углам, – вспомнится залитый солнцем голый лес, без бабочек и жуков, без паутины, муравьев, одуванчиков, без шелеста листьев и лягушечьего далекого кваканья. Точно сами себя увидели во сне… Вот только себя в прошлом или себя в будущем? В будущем, когда их обоих уже не будет на свете, лишь безмолвные образы их останутся, беспризорные, разгуливать по земле.