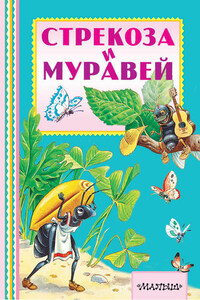-1-
Приветствую Вас, Серкидон!
Пишу, едва отдышавшись – только приехал. Был на юбилее писателя Краковского в стольном граде Владимире. От группы питерцев вручал мастеру художественного слова фаянсовую скульптуру токующего глухаря. Очень хороший подарок – большой и бесполезный. Надолго сохранится. В пространной поздравительной речи мне (неожиданно для самого себя!) пришло в голову уподобить писательский труд глухариному токованию: когда ничего не слышится, ничего не видится, кроме своей собственной песни.
Да что я все о себе! «Да не я один!// Да что я, лучше что ли?!»1. Много было подарков и речей, писателя хвалили дружно. Его, кстати сказать, так же дружно (в былые времена) хулили. Воистину творец должен жить долго, дабы, сумев пережить бурю критики, зайти в гавань поклонения. Что и сделал Владимир Лазаревич.
В качестве алаверды юбиляр попросил прочитать «кое-какие байки» из нового романа, и ему с восторгом разрешили. Привожу по памяти историю, которая запомнилась более всего:
Жил-был художник один. С раннего утра брался он за работу – писал картину. Работалось по-разному. Иногда дело спорилось: краски сами ложились на холст и радовали яркостью и чётким мазком. Художник смеялся, ликовал, восторгался, бил в ладоши, крича: «Ай да Пупкин! Ай да сукин сын!»2. Но вот радужный период в работе заканчивался и наступал мрачный. Кисть застывала в руке, а сам художник, подолгу стоя у картины, словно в ступоре. Яркие краски ему казались блёклыми, а ровные линии – кривыми. Очнувшись, художник, ломал с рыданиями кисти, бил кулаками о стены, с криками отчаянья бегал по мастерской и, наконец, падал без сил на пол. А на утро снова принимался за работу. Так проходили дни. Наконец, работа была завершена. Нанеся последний штрих, художник, полюбовавшись картиной, отнёс её на помойку. Потому что считал: всё главное вовсе не в картине, всё главное – в криках отчаянья и восторга, в горе и ликовании. В том приращении, которое получила во время работы душа…
Очень странная история, такая нетипичная для нашего сугубо практичного времени…
А потом был банкет, и уже застольные речи, и мой заготовленный ещё в Питере «экспромт»:
Друзья мои! Для всех не тайна
У нас сегодня юбилей,
И с этим словом не случайно
Рифмуется глагол «налей»!
Короче говоря, возвращался в родные пенаты Ваш горе-письмонаписатель с кой тбольной головой, что даже перестук вагонных колёс не радовал. Но вот какая история (и тоже про художника) по пути всё же припомнилась:
Жил-был художник другой. И надо же! Он тоже рисовал картину, а за трудами его наблюдал друг-приятель, он же критик-консультант. Однажды утром приятель посмотрел на холст и сказал: «О, работа приближается к концу!»
– Нет, что ты, что ты, – ответил художник, – тут ещё хлопот полон рот.
Прошла неделя, опять зашёл приятель-консультант в мастерскую:
– Я вижу перед собой готовую картину. Неужели ты будешь ещё что-то добавлять.
– Конечно, конечно, – ответил художник, – я вижу столько недоработок…
В следующий раз приятель зашёл к художнику через три дня и выступил уже как критик:
– Ты знаешь, мне кажется тебе надо остановиться… Стало меньше воздуха, стало как-то мрачновато…
– Как можешь, как ты можешь так говорить, тут ещё столько белых пятен.
Приятель махнул рукой и зашёл только через месяц. Перед собой он увидел художника, который внимательно вглядывался в чёрный прямоугольник, выискивая – где бы ещё мазнуть…
Внимание, Серкидон! Сейчас художников-живописцев поверим художником слова – Борисом Пастернаком! Бессребренника, который отнёс картину на помойку, Борис Леонидович оправдал бы строчками: «Цель творчества самоотдача,//А не шумиха, не успех…», а холстомарателя вразумил бы словами: «И надо оставлять пробелы …», «И окунаться в неизвестность…»
Пожалуй, достаточно о художниках, кистях и мольбертах. Вы же не планируете поступать в Академию Художеств. И это верно. Даже Василий Иванович Чапаев и тот не смог прорвался в это строгое учебное заведение. А когда Петька спросил, мол, как же такое произошло, Василий Иванович ответил: «Да почти всё сдал, Петька! Рисунок сдал… графику сдал… а вот… обнажённую натуру… ЗА-ВА-ЛИЛ!»
Поздравим лихого красного командира с очередной любовной победой и будем потихоньку возвращаться к нашим милым серкидонствам…
Дела у Вас не так хороши, как у Василия Ивановича. План по обнажённым натурам безнадёжно завален, а Ваш эпистолярный вдохновитель то виночерпствует, то, словно глухарь, поёт свою песню, токуя, пардон, толкуя о своём. О совершенных органах чувств, о том, что люди-человеки разделены на мужчин и женщин. О том, что женщина прекраснаи любить её большое счастье… А подшефный молодой человек сидит в углу, нахохлившись наподобие воробья, без девичьей, и даже без женской ласки. Такая выходит пара: глухарь и воробушек. А где же наши голубицы сизокрылые?..
Нет, так дальше жить нельзя. Будем добавлять конкретику в излишне вольную и сверхизбыточную переписку. Надо поскорее Вас оснастить, снабдить, вдохновить и – вперёд, вперёд в скопленье дев прекрасных! «”Под сенью девушек в цвету”3// Найдём и эту Вам, и ту». Это – стихи.
Планирую написать ряд писем о встречах-свиданьях, о любовных флиртованиях. Назовём эту, Вами долгожданную, тему песенной строкой: «Только раз бывают в жизни встречи…»4 В конце темы возможен робкий поцелуй в девичью щёчку… А может быть, и не в щёчку… А может быть, и не робкий… Это как у нас пойдёт. Мечтаю, что Вы, «новобранец Венериной рати» (Овидий), выскочите из окопа и побежите на штурм прекрасных крепостей. Вас, шустрого, сразу заприметят, одна – глазами стрельнёт, другая – волосами тряхнёт, третья декольте приоткроет, четвёртая бедро выставит. А дальше как у поэта-спринтера Владимира Вишневского5 – «И сводки мои всё тревожней,//И дамы ложатся всё ближе…»6
Но вот что беспокоит меня уже сейчас: молодые люди, «в девках засидевшиеся», впоследствии, по приходу плотских благостей, впадают в иную крайность – в донжуанство, усугубленное казановством. Маятник, минуя золотую середину, из одной крайности попадает в другую. Каждая следующая любовная победа становится не переживанием, а статистикой. Точно первый художник, вдруг изменив сугубо эмоционально-творческому подходу, стал штамповать картины с холодным носом, продавая их одну за одной… Либо, как у второго художника: юбки заслоняют белый свет и от брюнеток – в глазах темно… И то и другое – перебор.
Серкидон, к этому письму, которое заканчиваю с компрессом на лбу, будьте снисходительны, ибо писано оно мною после определённых жизненных испытаний… Иду восстанавливать добрые отношения с Лёвой. Не любит он, когда я уезжаю, обижается. Нет, конечно, за ним присматривали добрые люди, но всё же, всё же, всё же… Пойду кота поглажу, потрясу его за лапки.