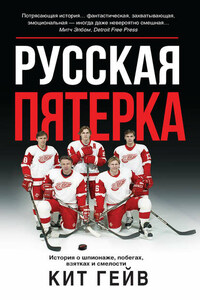Тук-тук, так-так… Тук-тук, так-так… Поезд дышит ровно, пульс ритмичный, сердцебиение нормальное. Стук в висках Никанорова – сгорбившегося над книгой полустарика с детскими глазами – сливается со стуком состава и утихает… Никаноров – учитель: лоб гармошкой, заношенный синий свитер, заикание, сухие пальцы в чернилах, на среднем – большая красная шишка. Двадцать три часа. За окном пролетает тьма, в стекле отражаются субтильная леди – подросток с виду – и её орущий младенец. Двое пацанов лет двенадцати-четырнадцати играют в подкидного. Их матушка – обтянутая джинсой свинка – хлюпает чаем и листает каталог «Орифлейм». С верхней полки доносится храп, почти рычание, и вздымается живот, обтянутый майкой-алкоголичкой.
На дрожащее приветствие Никанорова, когда тот, мокрый и запыхавшийся, неловко пряча зонтик и паспорт в пакет, прошёл к своей «боковушке», никто не обратил внимания. Поезд тряхнуло, огни тверского вокзала мелькнули напоследок – и уплыли в ночь, Никаноров вытянул шею, желая рассмотреть хоть что-то в окне, и стукнулся головой о полку. С неё, как собачий язык, свесился матрас. Свинка окинула Никанорова брезгливым взглядом. Паренёк постарше гоготнул, младший хохотнул за компанию – и обернулся, чтобы найти источник веселья.
Он протирает забрызганные очки, приглаживает бесцветные волосы и погружается в чтение. Затасканный том Толстого занимает почти весь столик – Никаноров, не зная, куда деть руки, прижимает локти к бокам и сидит, как цыплёнок табака. Тук-тук, так-так… «Господин этот во всё время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами…» Откуда-то бьёт тонкая воздушная струя, прямо по рёбрам, и Никаноров ёжится. «На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил…» Холодно, неуютно… Кажется, горло саднит… (Он сглотнул) Да, саднит… Простыл, значит… Свитер мокрый, колючий… Завернуться бы в одеяло… (В носу засвербило, и он сделал усилие, чтобы не чихнуть) «…или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал…» Чай!… Никаноров, вытащив из-под сиденья целлофановый пакет, пошатываясь, идёт к проводнице.
Дует из тамбура. Он захлопывает дверь и отдаёт сонной деве в униформе несколько монет, та молча протягивает стакан и бумажный пакетик. Никаноров беспомощно оглядывает титан, и проводница равнодушно поворачивает краник.
Подстаканник греет руки, Никаноров, улыбаясь, пробирается к себе, извиняясь перед чужими ногами и спинами. В отсеке оживление. Смех, дребезжание расстроенной гитары и резкий, химический запах полуфабриката. Никаноров чихает, извиняется, обжигает пальцы кипятком и замирает. Его место завалено подушками, а на столик брошено тяжёлое одеяло. Прямо на книгу. Он озирается и ищет слова.
Свинка окидывает его знакомым взглядом и вдруг орёт:
– Андрей, убери вещи с чужого места! – никто не реагирует. – Андрей!!! – Никаноров вздрагивает, плачущий младенец от удивления замолкает.
– Окей, – старший паренёк закатывает глаза и раздражающе медленно откладывает гитару. Резким движением смахивает одеяло со столика Никанорова, другой рукой прихватывая подушки. Мать одобрительно хмыкает и возвращается к каталогу. Андрей бросает вещи на нижнюю полку, под недоумённый взгляд субтильной леди, и снова берётся за «Если есть в кармане пачка сигарет…» Младший, хлюпая носом, поглощает вермишель из пенопластовой коробки. Опять поскуливает младенец. Храпит мужчина сверху. Тук-тук, так-так… Тук-тук, так-так… Никаноров ставит стакан на столик, втискивается на сиденье, пододвигает к себе книгу. Страницы смяты, одна из них надорвана. Скулы Никанорова бледнеют, и желваки начинают судорожно ходить.
«Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор…» Толстой не читается… Он запихивает в себя абзацы, как чёрствую булку… Саднит горло. Хочется спать. Когда уже выключат свет?… Завтра урок по «Крейцеровой сонате»… Нужно перечитать текст. Но можно сделать это утром. Можно? А сейчас – разложить постель, закутаться в одеяло и отвернуться к стене. Никаноров вспомнил это сладкое детское ощущение: бесконечный день, полный тревогами и страхами, вечно недовольная мама с совиным носом, сборы и беготня, тугой рюкзак, в который не лезет толстый Жюль Верн – и, наконец, он, сероглазый улыбчивый Гриша, один, на нижней боковой полке, стаскивает сандалии с потных ног, вытягивается в полный рост и отворачивается; кончиком носа чувствует холодную линкрустовую стенку, закрывает беспокойные глаза – и вот уже вокруг никого, только игривое солнце сквозь ресницы и тук-тук, так-так…
Но свет не выключают… Хорошо, почитаем ещё… Он подпирает кулаком подбородок. «В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет…» Буквы плывут перед глазами: «Д» присела в реверансе, «Ж» взметнулась бабочкой, «С» укусила себя за хвост; строчка рвётся, как нитка жемчуга, знаки препинания рассыпаются. Он захлопывает книгу. Завтра. Всё завтра. Никаноров снова встаёт, снова вытаскивает из-под сиденья целлофановый пакет и, прихватив пустой стакан, идёт к тамбуру. Купе проводницы заперто. Он оставляет стакан у титана.
В тамбуре холодно и гулко. Поезд трясётся, как позвоночник гигантского ящера. Под дверь со свистом пробивается влажный ветер. В окне мельтешат чёрные шапки деревьев. Пахнет сыростью и дешёвым куревом. Никаноров облокачивается на дверь и, закрыв глаза, выдыхает. В сущности, всё не так плохо… Сегодня был суматошный, но плодотворный день… Он наконец-то выступил с докладом по Лескову! Три года ночного сидения над монографиями, стучания по старой клавиатуре с неработающим «шифтом» – двумя пальцами, близоруко щурясь. И вот теперь – конференция! Ректор Тверского университета пожал ему руку, а профессор Соболев (бог, светило ОГУ имени Тургенева, тридцать лет лескововедению отдал!), сам Соболев так сердечно благодарил его за «Морфологию “На ножах”» – стиснул в своих медвежьих объятьях, похлопал по спине, а потом долго тряс руку, наклонившись, чтобы он, низкорослый, не чувствовал себя неловко, и басил: «Григорий Аркадьич! Вы наше зо-ло-то!!» Никаноров улыбается, гармошка на лбу распрямляется… Ах да, Соболев же позвал его в соавторы! Кажется, статьи для «Вопросов литературы»… Или даже монографии… Пригласил, протянул бумажку с электронным адресом и так многозначительно подмигнул!… На лбу выступает испарина. Бумажка с адресом! Где она? Он разворачивает целлофановый свёрток: паспорт в замасленной обложке, чёрный зонт, пакетик с монетами, полупустая пачка «Кэмела», спички. Ничего! Всё потеряно… Придётся звонить ректору, или декану, или Белянскому, или секретарю, и долго объяснять, заикаться, извиняться, расчёсывать ладони… Никаноров морщится – теперь он похож и на свою вечно недовольную покойницу маму, и на орущего младенца, и на мунковского «Крика». Он, дрожа, выворачивает карманы брюк – смятая бумажка падает на заплёванный пол, он бросается на неё и разглаживает: серый тетрадный клочок, «Соболев И.Л. [email protected]» – почерк круглый, увесистый, как сам Соболев, цифра «4» похожа на «7» – он секунду колеблется, но, догадавшись, что число – это год рождения профессора, успокаивается. Драгоценный обрывок возвращается в левый карман – целый, без дырок. Тук-тук, так-так… Тук-тук, так-так… Никаноров чиркает спичкой и затягивается «Кэмелом»: пачка влажная, и капельки воды на целлофановой плёнке превращают рыжего самодовольного верблюда в мираж. Горько-ореховые пары пропитывают лёгкие, Никаноров улыбается своим мыслям и расслабляется. Горло всё ещё саднит, и сигарета не так вкусна, как бывает, ветер неприятный, но освежает, бодрит. И главное – тишина, без людей, супов, гитар – только стук колёс, летящая тьма в окне и мысли, мысли…