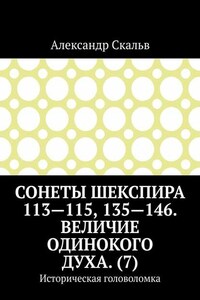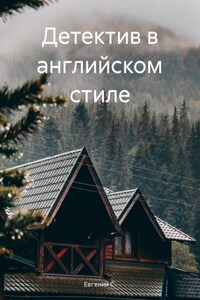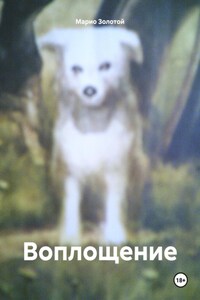Кресло, в котором я сидела, было белым, как и все вокруг. Белые стены, белый свет флуоресцентных ламп, тихо гудящих под потолком, белый же потолок. Даже плитка на полу была девственно белая. Ни одного яркого оттенка. Редкие цветы на подоконниках кажутся блеклыми. Просто. Уныло. Безлико. Хотя какая разница? Те, кто сюда приходят, редко обращают внимание на то, что их окружает.
Говорят, белый цвет успокаивает, приносит ощущение комфорта, надежду, что за черной полосой в жизни всегда следует белая. Может и так, да только у меня этот цвет вызывает совершенно другие чувства. Это цвет больниц, цвет, которым маскируют страх, боль и отчаяние. Цвет, стирающий человеческую индивидуальность.
Я всегда любила все яркое. Могла прийти в школу в ярко-желтом свитере и пурпурных вельветовых джинсах, и мне было абсолютно комфортно. Я обожала футболки с красочными принтами и покупала их по десять – пятнадцать штук за раз, что порой приводило маму в ужас. Пестрые платья, даже джинсы у меня были цветастые. Иногда я давала волю фантазии и разукрашивала одежду специальными маркерами. Рисую я так себе, так что иногда получалось что-то совсем непонятное. “Что за чертовщина на тебе надета?” – с ужасом восклицала мама, пытаясь стянуть с меня очередную футболку с “художеством”. Она никогда не понимала моей любви к цветам. Как не понимала и того, почему я вечно хожу в бесформенной одежде, которая к тому же, выглядит не очень презентабельно. Сама она всегда одевалась в однотипные блузки пастельных тонов и неизменную юбку-карандаш или строгие брюки. И то, и другое – черного цвета. В вопросе вкуса в одежде наши с мамой взгляды различались диаметрально, из-за чего нередко вспыхивали “мини-ссоры” как их называл папа. Он всегда вставал на мою сторону, обычно говоря:
– Оль, ребенок так самовыражается. Подростки сейчас все сплошь и рядом такие, ты же знаешь. Скажи спасибо, что у нее татуировок с пирсингом нет.
– Еще чего! – От слов “татуировки” и “пирсинг” у мамы всякий раз глаза на лоб лезли. – Не вздумай! Увижу на тебе это уродство – на гитаре играть больше не будешь! – мама грозила мне пальцем, словно нашкодившему малышу и удалялась с видом оскорбленного достоинства.
На самом деле моя мать вовсе не мегера. Просто так получалось, что практически все вещи, которые нравились мне, мама не одобряла. И это неодобрение в большинстве случаев выражалось очень бурно. Исключением стал, пожалуй, только случай с гитарой.
Когда в преддверии десятого дня рождения родители спросили меня, что я хочу в качестве подарка, я без всяких колебаний сказала, что хочу гитару. Услышав об этом, мама нахмурилась и с плохо скрываемым осуждением в голосе сказала:
– Доченька, ты уверена? Хорошая гитара – удовольствие недешевое. И играть на ней вот так сразу ты не научишься, на это нужно время и регулярные занятия. Ты можешь мне обещать, что ты не забросишь это занятие в первый же день и инструмент не будет потом стоять где-то в углу?
Я понимала, что, если я сейчас скажу “да”, мама моим словам все равно не поверит. Это очень хорошо было видно по ее лицу. Но где-то в глубине души я четко знала, что обязательно научусь играть на гитаре. Я не представляла свою жизнь без музыки. Я обожала петь. Могла начать напевать что-то прямо во время контрольной, причем не замечала этого, пока на меня не шикали одноклассники или не одергивал учитель. Наша учительница по музыке, Мария Валерьевна, как-то раз сказала, что я очень хорошо пою и у меня абсолютный слух, и предложила мне поступить в музыкальную школу. Но мама была против. Она была твердо убеждена, что музыка – это не то, чем нужно заниматься в жизни. Право, экономика, математика – вот что по ее мнению, действительно стоило внимания, вот чему нужно было посвящать себя. А не всякому там “бренчанию” и “песенкам”. Как мы с папой ни старались, на каждый наш аргумент “за” у мамы находилось два “против”. Но в тот день судьба, наверное, решила меня пожалеть. Поздно вечером, лежа в кровати, я слышала голоса родителей, которые тихо что-то обсуждали на кухне. Недостаточно тихо для моего чуткого слуха. Я слышала почти все:
– Скажи, что плохого в том, что ребенок будет заниматься тем, что ему правда нравится? – устало спрашивал папа. Если ты будешь вечно ее критиковать и вечно ей что-то запрещать, она будет действовать тебе назло. Хорошо, если это будет что-то безобидное вроде гитары, – тут папа усмехнулся, – а ведь гитара у нее все равно когда-нибудь будет… – следующих слов я не разобрала, но что бы папа не произнес, он явно вообще не хотел об этом говорить. – Просто разреши ребенку быть самим собой. Не пытайся делать из нее кого-то еще. Что-то мне подсказывает, что гитара ей однажды очень поможет…
– Как гитара может помочь? – мама произнесла это так, будто ей вдруг сказали, что земля плоская.
Не знаю… – папин голос звучал устало и как-то рассеяно. – Оль, давай купим Ане гитару. Она уже достаточно взрослая, чтобы понимать, чего она действительно хочет. Все, пойдем спать, поздно уже. – послышался скрип стула, а затем папины шаги в коридоре.
Из кухни не донеслось ни звука. У мамы не нашлось возражений.
Раздался резкий звук открывающейся двери. Все еще погруженная в мысли, я встала с кресла и хотела было зайти в кабинет… но вдруг во что-то врезалась. А точнее, в кого-то. Этим кем-то оказался высокий, спортивного телосложения парень со слегка вьющимися каштановыми волосами до плеч и карими глазами. На нем были черные джинсы с множеством заклепок, ярко-красная футболка, на которой был изображен дракон, а под ним надпись, стилизованная под языки пламени: “Не прикасайся ко мне, если не хочешь обжечься”, и черные кеды. На внутренней стороне предплечья левой руки я увидела татуировку. Это точно была какая-то дата, но я не смогла рассмотреть, какая именно. У него что, фантазии не хватило набить что-то поинтереснее?
Все это я уловила за пару секунду, прежде, чем парень скривился, как от боли и с силой втянул воздух через нос.
– Смотри, куда идешь, – прошипел он мне с таким ядом в голосе, как будто я только что прилюдно его оскорбила.
– Сам смотри куда идешь, если такой умный! – не осталась в долгу я. – Проход не загораживай, – я стала протискиваться мимо него в кабинет и только тут заметила, что парень опирается на трость. Набалдашник серебряный, в виде головы льва с открытой пастью.
Видимо, я смотрела на льва дольше, чем полагалось, потому что парень противно усмехнулся и сказал:
– Он тебя не сожрет. А вот я вполне могу, – то, что в его понимании, наверное, было улыбкой, больше походило на гримасу.
Я уверенно посмотрела ему в глаза и ответила: