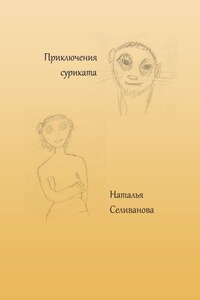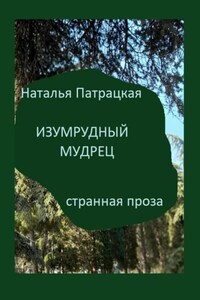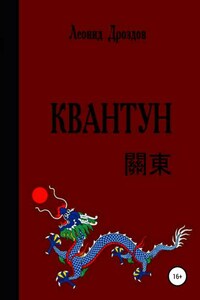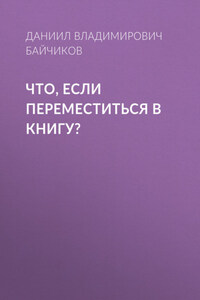Вокруг непроглядная тьма, деревья черные недвижно выстроились, между ними местами звездочки мерцают. По всему – лес дремучий и ночь глубокая. Вдруг многочисленные черные крылья захлопали – знать, взвилась с места потревоженная кем-то стая ворон. У Алексея захолонуло сердце от необычного тревожного состояния. «Черт-те что творится», – промелькнула мысль у него в голове. Между стволами промелькнула тень, другая. Кто б это мог быть? «Черти, что ли?».
– Ага, вот он, здесь прячется, – прозвучали где-то сзади слова, произнесенные по-немецки хриплым, скрипучим голосом. Он их понял, потому как немецкий язык ему был хорошо знаком.
«Так это и не черти совсем, – обожгла его догадка, – это же фрицы проклятые».
Навалились на него грузные черные тени… Да и не тени совсем, а невероятная по своей мощи силища нечистая. Он попытался вывернуться, освободиться из цепких объятий, но усилия его были тщетными. Он слышал радостный, победный громогласный хохот и клич, провозглашаемый раскатистым, громким, хриплым голосом:
– Ломай его, калечь, бей его до смерти!
И сыпались на него удары со всех сторон. Он как мог защищался от них, то укрывал один бок, то ухитрялся подставить другой… Но боль была нестерпимая. Адская была боль…
Алексей и не понял, отчего он внезапно пробудился: то ли от непонятного шума и возни в палате, то ли от резанувшей вдруг боли в бедре. А может, от того и другого вместе. Минувшие вечер и ночь были беспокойными, и до раннего утра он никак не мог уснуть. А вот когда уснул, приснилась такая нелепица.
Он лечился после ранения две с лишним недели, но так и не смог пока приспособиться к здешнему режиму. Порядок фронтовых буден в разведке, казалось, был неистребим: ночи, как обычно, бессонные – выполнение боевых заданий, – а днями спать приходилось как, где и сколько придется.
Промучившись от бессонницы и боли до утра, сразу после завтрака и утренних необходимых процедур Алексей крепко уснул. И даже боль с приходом сна угомонилась.
Его тетрадка за это время не пополнилась ни единой новой строчкой, хотя кое-какие мысли и крутились на уме и «перо тянулось к бумаге». Но болезненное состояние и беспокойный шум в палате лишали его творческого настроя, выбивали из колеи.
Беспокоил и вызывал сочувствие молодой, раненный в голову лейтенант, метавшийся в бреду. Возгласы его были то просяще-умоляющими, то чрезвычайно возбужденными и злыми, а то он переходил почти на шепот и бормотал что-то совершенно неразборчивое.
– Товарищ майор, товарищ майор, не уберег… Виноват! – покаянно отчитывался он, видимо, перед командиром.
– Не доглядел, товарищ майор. Я, я во всем виноват, – казнил он себя, ворочаясь в постели.
После непродолжительного затишья лейтенант вдруг резко и зычно вскрикивал:
– Опарин! Рядовой Опарин, назад! Я сказал, назад! Отставить!..
А то вдруг начинал поднимать бойцов в атаку, выкрикивая на всю палату команды вперемешку с этажными ругательствами.
– То-то! – ликовал лейтенант, захлебываясь злорадным смехом. – А вы как думали?! Нет, нас так запросто не взять!..
Бывали минуты, когда он вдруг забывался и, кажется, даже засыпал. Но сон его были чрезвычайно непродолжительным. И лейтенант снова и снова принимался бредить.
Привлекал внимание Алексея и пожилой моряк с ампутированной почти по локоть рукой, сидевший, устало ссутулившись, на кровати. Он беспрестанно нянчился с раненным в живот совсем юным светловолосым бойцом, лежавшим по соседству.
Паренек беспрерывно просил пить. А моряк тихо приговаривал хриплым, басовитым голосом:
– Та ты погодь трошки, Мыхасик. Тильки трошечки погодь. Нэ можна тоби покы. Эх!.. – надсадно кряхтел моряк. И здоровой рукой прикладывал к губам паренька влажную тряпицу. Если бойцу удавалось поймать ее и зажать губами, он жадно обсасывал ее, долго не выпуская изо рта. Неутолимая жажда и, надо полагать, пЕкло в животе не позволяли ему хоть на какое-то время забыться сном.
А больше всего беспокоил Алексея его сосед, раненый в грудь и руку и располагавшийся на смежной койке, мужчина средних лет, называвшийся Иваном Старцевым. Иван хоть и укладывался на постель, но ни успокоиться, ни уснуть ему подолгу не удавалось. Он ворочался, стонал и в конце концов, ворча сквозь зубы матерную брань, подымался с постели и, приобняв, как малое дитя, здоровой рукой другую, перебинтованную от плеча до кончиков пальцев, расхаживал по палате, главным образом, от окна до двери и обратно. Но когда Ивану удавалось-таки прилечь и заснуть, он будоражил всю палату поистине богатырским храпом.
Всего в палате теснилось до полутора десятка коек. И все они были заняты.
Самым тихим и неназойливым из всех находившихся здесь на излечении Алексей считал татарина Мусу Файзулина. По виду Мусе можно было дать лет тридцать, а то и более. У него была отнята левая стопа. И потому он, вставая, не расставался с костылем и кривой сучковатой палкой. Подняться с постели у него было только две причины – сходить по нужде или помолиться. Движения приносили ему, по-видимому, нестерпимую боль, что было приметно по кривившемуся тонкогубому рту, обрамленному густой черной щетиной. Но он, тем не менее, заставлял себя подниматься. Молился Муса не менее пяти раз в день. Он опускался с койки на пол, подстилал под колени загодя припасенную чистую, еще не заношенную портянку, и с трудом, наконец- то устроившись на коленях, начинал что-то почти беззвучно нашептывать. Периодически Муса вздымал руки, сложа ладошки, и как бы омывал ими свое лицо. Труднее всего давались Мусе поклоны.
Едва разомкнув тяжелые ото сна веки, Алексей, окинув взглядом левое крыло палаты и увидел группу людей, занятых, как он догадался, скорбными делами.
Двое санитаров – пожилой мужчина с бравыми, густыми, с проседью усами и молодой беспалый (на левой руке у парня не было двух средних пальцев) с вечно наивным, растерянным взглядом – укладывали в каталку завернутое в простыню тело умершего солдата. За их действиями озабоченно наблюдал стоявший тут же главный врач госпиталя Борис Соломонович Марголин.
Пожилой моряк, ссутулившись еще больше, сокрушался и утирал слезы:
– Та як же так, Мыхасик! Такый гарный хлопчик… Житы та житы…
Он ухватил свесившуюся с каталки руку умершего и покаянно всхлипнул:
– А колы б мени знаты, шо така бида буде, я б тебе напоив…