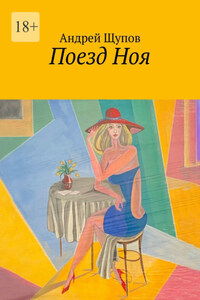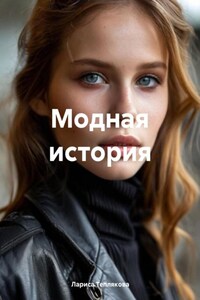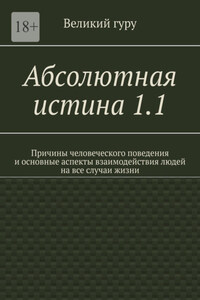Короткая пауза, зарядка для глаз с клоунским вращением по часовой стрелке и против, стремительный бросок в туалет, а после – вольно и вразвалочку на кухню. Уфф! Есть еще в этой утомительной карусели секундочки, коим можно порадоваться, а коими и оправдаться перед вечностью…
Остатки чая пришлись кстати, а вот в сковороде под крышкой обнаружилось нечто тушеное – и тушеное определенно давно. Это «нечто» еще не пахло (правильнее сказать – не воняло), однако и пробовать блюдо Павел Куржаков не рискнул. Обычно с такими тарелками-мисками народ поступает проще: терпит еще немного, а там, дождавшись окончательной смерти продукта, с чистой совестью выбрасывает. Вот и Павел не стал изобретать велосипед – аккуратно прикрыл подозрительную сковороду и отошел от греха подальше. Еще не вечер, господа присяжные, потерпим и подождем.
Один его знакомый поэт, мало издающийся и плохо питающийся, страстно уверял, что если скисшее да протухшее долго и трудно варить, то в итоге происходит маленькое чудо. Нет, золота алхимиков он не обещал, зато клялся, что все пищевые токсины приказывают долго жить, и продукт повторно обретает аппетитные качества, наполняя человеческий организм необходимыми калориями и микроэлементами. Сам поэт, по его собственному признанию, проводил подобные опыты многократно – чуть ли не повседневно, оттого и был подвижен, как землеройка, голосист и инициативен. Однако определенные сомнения у Куржакова все-таки оставались, и повторять опасный эксперимент он не решался.
Делая заход на кухню вдвойне осмысленным, Павел вооружился стальной ложкой и минуту-полторы добросовестно скреб сожженную дочерна кастрюльку. Метод лентяя, присоветованный уже другим поэтом – с отважной фамилией Пугачев, который доказывал, что чистить целиком кухонный прибор – дело нерентабельное. Но если подойти к делу с умом и расчленить процедуру на десяток-другой подходов, все станет легко и просто. Две-три попытки в день по тридцать-сорок движений – и драгоценные силы будут сэкономлены. Уже через месяц воссияет любая испорченная посуда.
То ли Пугачев умел быть убедительным, то ли жалко было кастрюлю, но Павел уже вторую неделю работал по предложенной схеме. Пока скреб эмаль, припомнил свою переписку с одноклассницей Леночкой, однажды переехавшей из их родного Исетьевска на жительство в «солнечный рай», а точнее в Новую Зеландию. В одном из писем Леночка признавалась, что в своем «раю» они все же имеют один отчетливый «минус». Минус заключался в том, что бедным новозеланцам приходилось денно и нощно воевать с тамошними опоссумами. В благодатных условиях Новой Зеландии зверьки плодились быстрее кроликов, а размерами вырастали до рослых кошек. Будучи завезенными из Австралии, гиперактивные опоссумы в несколько лет оккупировали новозеландские кущи, нанося местным посадкам непоправимый вред. При этом поедали все, что прорастало из земли – в том числе огородные посадки моей подруги, включая любимые боронии и пассифлоры. Ну, а за цветы – да еще с такими чудными названиями женщины способны пойти на многое. Во всяком случае, самой Леночке поведение зверьков показалось настолько возмутительным, что из сторонниц «Гринписа» и завзятых друзей животного мира одноклассница стремительно перепрофилировалась в откровенного зоофоба. Большая модница, она даже носить стала шапку и кофту из меха опоссумов, чем определенно вызывала ярость пушистых обитателей Новой Зеландии. Последних Леночка научилась отлавливать самолично с помощью специальных «гуманно убивающих» ловушек. Сперва умерщвленных зверьков она выбрасывала куда подальше, но со временем пришла к выводу, отдаленно напоминающему позицию плохо питающегося поэта, и приспособилась закапывать тушки прямо у себя на огороде, сажая сверху фрукты, цветы или овощи. По ее словам, идея удалась на славу, все отлично пошло в рост. Из дохлых опоссумов получались отличные всходы, и в качестве удобрения зверьки зарекомендовали себя первоклассным образом.
Ознакомившись с такой оглушающей информацией, Павел, помнится, был крепко ошарашен. Он откровенно не знал, как реагировать на столь продвинутое сообщение и в итоге решился написать про лошадей, ежедневно гарцующих под окнами, про кучки навоза, размазываемые колесами машин по всему городу. Впрочем, собственное письмо ему тоже не понравилось. Само собой получалось так, будто изобретательность Ленки он целиком и полностью одобряет, а нерачительность сограждан, из-за которых пропадает ценное лошадиное гуано, вроде как осуждает. С легким ужасом Павел понял, что ступает на опасный путь, двинувшись по которому, очень скоро начнет всерьез анализировать пользу и вред гниющей органики, оценивать КПД затапливаемых кизяком печей и рассуждать об эстетике жилищ, выстроенных из саманного кирпича. Словом, не срослось у него тогда с перепиской. На новозеландское письмо он так и не ответил, а Леночка, скоропостижно родив двойню, благополучно стерла из памяти российское прошлое. Как грубовато определил один из их общих друзей: «родину променяла на говно из опоссумов»…
Сполоснув руки и отложив кастрюльку, Павел вернулся в комнату и посидел какое-то время на кушетке. Это старенькое диваноподобное создание он специально увез от родителей, дабы спасаться от депрессий. А может, наоборот – обрушиваться в них с максимальной скоростью. Кушетка помнила то, о чем сам он давно позабыл: дикие прыжки в далеком детстве, ягодицы подруг и друзей-приятелей, пролитое пиво и пепел сигарет, охи-ахи первых побежденных и победительниц. Много, чего было связано у него с этой кушеткой. Точно диск или флешка, за минувшие десятилетия она впитала в себя гигабайты разнокалиберных эмоций и иногда по ночам что-то скупо перекачивала в его сны, наполняя дремотную холостяковщину утраченным смыслом. Своими примятостями, отменно повторяющими извивы его тела, кушетка умела мгновенно усыплять, но могла и повергнуть в длительную бессонницу. Впрочем, сейчас она безмолвствовала – возможно, в свою очередь отсыпалась…
Возвращаться к работе отчаянно не хотелось, но он сделал усилие и вернулся. Тремя мужественными шажками знаменосца без знамени. Еще один маленький подвиг в череде обыденного.
Если занятие приносит какой-то доход, сие принято именовать работой. Вот он и работал. Точнее говоря, вычитывал рукопись, а рукопись вычитывала его. Отчасти это напоминало войну. Строки напоминали окопы, страницы превращались в редуты. Брать их приходилось штурмом – безо всякого охвата флангов, незамысловатой атакой в лоб. Каждое слово ставилось под прицел, деньги редактора, пусть и самопального, добывались трудно. Павел морщился и вздыхал, шепотком ругался. Подобных «халтур» у него лежало еще добрая стопка – результат неосторожного соития регионального клуба начинающих фантастов и молодой ветреной Музы – скорее всего, страдающей безнадежной близорукостью. Своих клиентов она пестовала коллективно, не утруждая себя нашептыванием на ушко, – очень уж похоже авторы описывали ужасы грядущего апокалипсиса. Толщина рукописей существенно рознилась, однако содержимое, на взгляд Павла, практически ничем не отличалось.