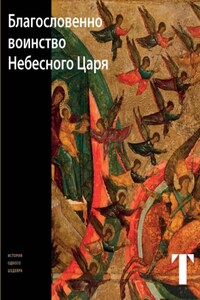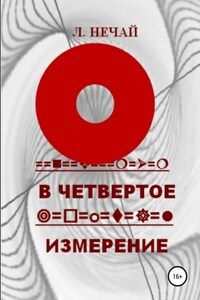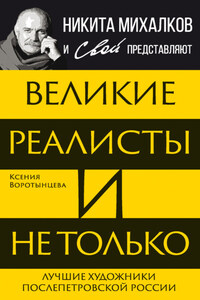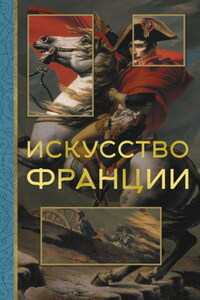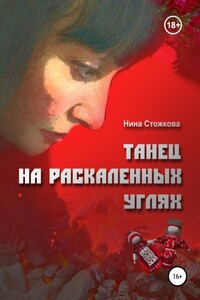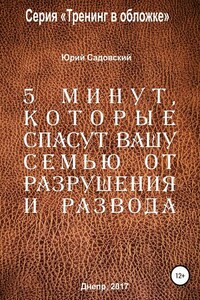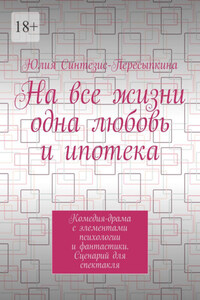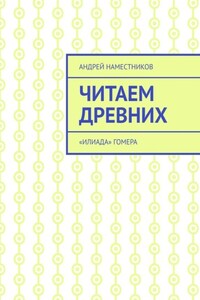Архив «отца русского футуризма» Давида Бурлюка столь же бескраен, сколь неисчислимо количество созданных им художественных произведений. На сегодняшний день большая его часть сосредоточена в рукописном отделе Российской государственной библиотеки, куда сам художник отдельные материалы начал отправлять из Америки ещё в середине 1920-х годов. Ядро московского фонда сформировалось в 1960-е годы благодаря активной деятельности супруги художника Марии Никифоровны Бурлюк. Именно ею в «Ленинку» были переправлены сотни черновиков поэтических произведений Бурлюка, его видовые и портретные зарисовки, обширная переписка, наброски теоретических статей, страницы воспоминаний и очерков на самые различные темы1.
Среди всего этого лежащего мёртвым грузом богатства особый интерес вызывают несколько путевых дневников конца 1940−1950-х годов. Дело в том, что, оказавшись в 1922 году в Америке, Бурлюки первые двадцать лет жизни были заняты завоеванием своего места в нью-йоркской художественной среде. И лишь в начале 1940-х годов, на пороге своего шестидесятилетия, они смогли совершить давно планируемую поездку на автомобиле в Калифорнию, а затем и в Мексику. В Европу супругам удалось попасть только в 1949 году. Впоследствии они еще несколько раз будут пересекать океан, но это первое путешествие имело совершенно особый характер, оставив весьма заметный след в искусстве «позднего» Бурлюка.
Цель поездки была не туристическая, но «художническая». В течение уже долгого времени американская критика называла Бурлюка «американским Ван Гогом». Подобное определение, несомненно, льстило художнику, тем более что оно отражало его действительное увлечение искусством голландского мастера. Мощный импульс этот интерес получил после триумфального успеха большой персональной выставки Ван Гога, организованной нью-йоркским Музеем современного искусства в 1935 году. С этого времени в и без того пастозной живописи художника всё заметнее стало использование характерного рисующего мазка-обводки – основного и наиболее узнаваемого элемента вангоговского стиля.
Сам художник объяснял свою всегдашнюю тягу к пастозной, фактурной живописи физическим изъяном – в раннем детстве он лишился глаза. Однако выставка Ван Гога заставила Бурлюка вернуться в далекое прошлое, к самому началу его творческого пути, когда в конце 1900-х годов в московских собраниях Сергея Щукина и Ивана Морозова он впервые увидел полотна великого голландца – «Куст сирени», портрет доктора Рея, «Красные виноградники в Арле», знаменитое «Ночное кафе». Художник отчетливо осознал, что выбор, сделанный им тогда, практически определил весь его дальнейший путь, поскольку именно вангоговским импульсам суждено было сыграть решающую роль в формировании его собственного стиля.
В этом смысле для Бурлюка поездка на юг, «к Ван Гогу», стала свое – образным возвращением к своим истокам. Речь шла, прежде всего, об Арле – том самом городе, в котором «лимонно-жёлтое пламя юга» позволило голландскому художнику обрести свою глубоко оригинальную манеру. С собой в путешествие художник взял альбом с репродукциями работ Ван Гога, написанных в самом Арле и его окрестностях. Аккуратно посещая все эти места и непременно делая в каждом из них по нескольку этюдов, Бурлюк стремился запечатлеть их тогдашнее состояние, спустя шестьдесят лет после того, как их видел голландский мастер. Однако этот мемориальный аспект не был единственным. «Тайной» надеждой художника было желание обнаружить те приёмы, благодаря которым Ван Гогу удавалось достичь преображения натуры, и, тем самым, приблизиться к разгадке самого движущего «механизма» вангоговского стиля.
Надо сказать, что идея такого буквального, «натурного» исследования природы стилей мастеров современной живописи в те годы уже практиковалась в работах ряда исследователей. Так Джон Ревалд, знаменитый впоследствии историк импрессионизма, ещё в 1930-е годы занимался фотофиксацией мест, изображенных в картинах Сезанна и Ван Гога. А путешествовавший вместе с ним художник Лео Маршутц создал целую серию работ, в которых запечатлел тогдашнее состояние всех известных сезанновских мотивов! Однако практика создания картин, которую использовал Бурлюк в своей «арльской» серии, имела мало общего с искусствоведческим подходом и для своего времени оказалась в некотором роде революционной.
Бурлюк не просто фиксировал нынешнее состояние вангоговских мотивов. Изображая их, он постоянно помнил об интерпретации этих мотивов самим Ван Гогом. В результате картины художника обретали особую смысловую многослойность. Натурный пласт переплетался в них с культурной памятью, а персонажи голландского мастера странным образом начинали напоминать большеголовых героев бурлюковских полотен. Сознательно стремясь к подобному «наложению», художник на каждой картине проставляет два имени – свое и Ван Гога, а также, подобно средневековому переписчику, указывает две даты – «оригинала» (1888) и дату фактического изготовления «рукописи» (1949). Их включение в живописную ткань произведения, позволяющее художнику символически обозначить само понятие протяженности временного потока, сегодня может быть прочитано в качестве своеобразного концептуального жеста – одного из первых в послевоенном искусстве.
Подобное интуитивное предвосхищение того или иного новаторского приёма было присуще Бурлюку на всем протяжении его творческого пути. Современники не раз с удивлением отмечали эту его способность. Интересно привести в этой связи слова поэта Бориса Поплавского. Осматривая в начале 1920-х годов в Берлине большую выставку русской живописи и дойдя до работ художника, он обескуражено записывает: «У Бурлюка выставлены очень старые вещи, но как они поразительно похожи на то, что сейчас делают экспрессионисты!»2.
Своим «арльским» циклом Бурлюк также одним из первых опробовал ставший краеугольным для постмодернистской культуры принцип трансформации наследия своих предшественников. Однако титул «отца постмодернизма» достался Пикассо, аналогичные опыты которого датируются лишь серединой 1950-х годов (варианты «Алжирских женщин» Делакруа).
Поразительно, но, судя по всему, когда «обслуживающие» великого испанца критики внятно артикулировали для публики смысл этого приёма, тем самым легализовав его использование и единогласно признав Пикассо его бесспорным автором, Бурлюк даже не вспомнил о своем праве первородства! И до сегодняшнего дня его диалог с искусством Ван Гога продолжает оставаться фактом личной биографии художника, по-прежнему воспринимающимся маргинальным по отношению к истории современного искусства.