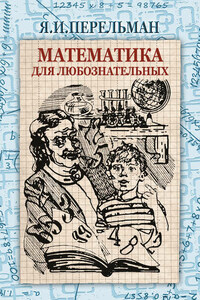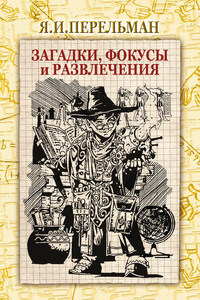Хмурым осенним вечером по пустырю, поросшему редким кустарником, брели трое молодых парней. Старшему из них – белобрысому крепышу – было на вид лет семнадцать. Лицо его можно было бы признать даже красивым, если бы не недоброе, змеиное выражение глубоко посаженых серых глаз. Старшим он был отнюдь не по возрасту, но во всех его повадках ощущалось превосходство над остальными членами маленькой компании. Он привык помыкать ими и не прощал ни малейшего ослушания.
Второй парень – чуть повыше ростом, рыхлый, со слегка дебильным выражением лица – был ровесником первого, но подчинялся ему беспрекословно.
Замыкал шествие невысокий худенький парнишка лет шестнадцати, смуглолицый, в бегающих глазках которого проскальзывали страх и затравленность. Он нес на плече лопату и изредка бросал испуганный взгляд на старшего.
Большой пустырь находился на берегу реки, примыкая к рыбному порту. От жилого массива его отделяла полузаброшенная тополиная аллея, заросшая неухоженным кустарником. На берегу ржавел старый рыболовецкий сейнер, который когда-то вытащили для отправки на металлолом. Прежде его нужно было порезать на куски автогеном, однако сил и средств на это, видимо, не нашлось. Так и валялась годами на берегу эта старая, ржавая махина, возле которой со временем стали ошиваться разные темные личности. Здесь, вдали от посторонних глаз, они устраивали попойки, которые нередко заканчивались кровавыми разборками. Милиции эта криминогенная точка была, конечно же, известна и даже входила в маршрут патрулирования. Летом пешие наряды довольно часто заглядывали на пустырь – но кто полезет сюда в осеннюю распутицу, чтобы измазаться в грязи или, еще хуже, подвернуть себе ногу в какой-нибудь рытвине.
Старшему все это было хорошо известно, поэтому он вел сюда свою компанию спокойно, не опасаясь кого-либо встретить. Около сейнера находилось кострище с остатками золы и непрогоревших поленьев. Вокруг кострища расставлены ящики, которые, по неписаному закону собиравшейся здесь шантрапы, нельзя было использовать в качестве топлива – слишком издалека приходилось их сюда таскать. Но «старшему» было откровенно наплевать на эти «законы». Он сломал один ящик на дрова и разжег костер, потом ловко и быстро, подсвечивая себе фонариком, осмотрел сейнер, чтобы убедиться в его «необитаемости».
Все трое уселись вокруг костра.
– Давай! – скомандовал Старший.
Дебил достал из внутреннего кармана куртки бутылку водки и услужливо протянул ее Старшему. Тот ловким движением свинтил пробку и сделал большой глоток из горлышка. Дебил протянул ему кусок колбасы и краюху хлеба. Старший» закусил и, еще раз глотнув из бутылки, передал ее и остатки пищи Дебилу. Тот, одним глотком уполовинив водку, доел объедки и сунул бутылку, в которой еще оставалось не менее трети, в руки Младшему.
– А закусить нечем? – жалобно заныл тот.
– Пей! Мужик ты или нет? – захохотал Старший. – Хочешь жрать – землей закусывай!
Дебил подобострастно хихикнул. Младший, морщась, допил водку.
– Все, хватит рассиживаться! Иди, копай, – Старший сунул ему в руки лопату.
– А может не надо? – испуганно прошептал Младший.
– Копать, мудак! – рявкнул Старший, подкрепив свои слова зуботычиной.
– Где копать? – захныкал Младший, утирая разбитые губы.
– За бугром, баран, чтобы от костра не было видно!
Младший, волоча за собой лопату, поплелся к бугру, находившемуся метрах в двадцати от костра. Вскоре оттуда донеслось характерное «чавканье» лопаты, роющей влажный, ослизлый грунт.
Старший и Дебил закурили. Минут через пятнадцать к костру подошел Младший, весь измазанный грязью.
– Я устал, я больше не могу, – жалобно захныкал он.
– Иди, смени этого дохляка! – бросил Старший Дебилу.
Тот послушно встал, направился к яме и принялся копать дальше. Работал он размеренно, словно не чувствуя усталости.
– Молодец! – похвалил его Старший. – Только давай быстрее – осталось не больше часа времени.
Старший посмотрел на Младшего. То ли от страха, то ли от выпитого (много ли надо этому тщедушному сопляку?), но тот трясся в ознобе.
– Не бзди, задрота! – Старший сунул Младшему сигарету. – Не трясись. Сегодня я из тебя мужика буду делать!
Младший в ответ лишь испуганно закивал головой. Минут через сорок к костру вернулся Дебил.
– Все, – буркнул он, протянув к огню озябшие руки, – там уже по грудь…
Старший раздал всем по сигарете. Молча закурили. Минут через двадцать послышались шаги – кто-то шел по направлению к костру. Младший затрясся еще сильнее.
– Глохни, сучок! – Старший влепил ему затрещину…
…Старший следователь по особо важным делам майор милиции Островецкий сидел в своем кабинете и машинально перелистывал страницы уголовного дела по шайке квартирных воров. Нужно было приступать к составлению обвинительного заключения, но Олег медлил. Следствие по делу, собственно, было закончено еще месяц назад, но тогда он не успел написать «обвиниловку» – на него повесили раскрытие убийства полковника Митрофанова1, потом произошел августовский путч… В стремительном водовороте этих событий было как-то не до «квартирщиков».
Теперь же, когда все устаканилось, можно было бы спокойно завершить это дело, но что-то мешало, не давало покоя. Олег достал лист ватмана с шахматной таблицей по делу, в которой наглядно был обозначен весь расклад: эпизоды, состав участников по каждому из них, следственные мероприятия… Островецкий знал эту таблицу наизусть, но все равно углубился в ее изучение. Таблица имела почти законченный вид: двадцать два эпизода преступной деятельности, четыре фигуранта, в том или ином сочетании постоянно участвовавших в кражах. Однако был еще и пятый – некто Карлис Крауклис, по кличке Художник, который напрочь выпадал из общей картины. Он участвовал лишь в последнем эпизоде – краже из дома Мары Крумини, совершенной на пару с лидером группы Гвидо Сескисом по кличке Хорек.
Сескис получил свою кличку не только потому, что его фамилия в переводе означала «хорек». Он и был похож на хорька – хитрый, подлый, беспринципный. На следствии он вел себя нагло, вызывающе, игнорируя очевидные факты и улики. Трое его подельников: Гулбис, Юркевиц и Рогис, молодые парни двадцати двух – двадцати трех лет от роду, во всем сознались и сотрудничали со следствием, обоснованно рассчитывая заслужить снисхождение, но Хорек, движимый глупой блатной романтикой, решил изображать из себя крутого уголовника. Однако, будучи ранее не судимым, и не имея опыта «общения» со следственными органами, делал это неудачно. Опытный уголовник, обычно, отпирается до определенного предела, но под давлением улик либо признается, либо уходит в «несознанку» – вообще перестает давать показания. Естественно, если он признается, то только в том, что ему доказано, но нести околесицу опытный урка не станет – глупо и бессмысленно. Зачем понапрасну раздражать следователя?