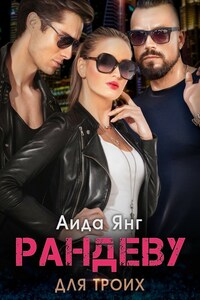Жил-был в Петербурге еврей. Классический случай!
Петербург ещё был Ленинградом (хотя уже был переименован обратно в Санкт-Петербург), и в гущах аллей скрывал осквернённые монументы вождям, разлагающихся под дождями гипсовых пионеров с отколотыми носами и ленинский броневичок. Еврей не обращал на это никакого внимания и всей душой надеялся на то, что теперь живёт в Петербурге.
Жил еврей, как и положено было жить всем приличным людям, на Аптекарском острове, боялся сквозняков и ветра, затяжных дождей (поскольку на потолке в правом углу появлялись недюжинные подтёки, по форме похожие то на Африку, то на США, то на архипелаг Гавайских островов, но особенно часто – на Францию). Боялся промочить ботинки, боялся быть обрызганным подъезжающим к остановке троллейбусом. Больше всего боялся простудить виолончель и укутывал ее в старую шаль тёти Риты. Проще говоря, жил в Петербурге один еврей, который всего на свете боялся.
Он был красив: карие глаза в черной кайме ресниц, густые черные брови и губы уголками вниз. Походил на драматических актеров немого кино, которые в кадре трагически падают на диваны и заламывают руки.
Но его театральная красота, несколько похожая на грим, настолько не вязалась с его поведением, что красоты в нём никто не замечал.
Он был суетлив, постоянно жестикулировал и напоминал запятую, поставленную как-то второпях. Смешной такой и весёлый.
Его звали Яков Шпильман.
Шпильман из тех самых, немецких Шпильманов.
Нет, даже лучше так: Шшшпиииииильмааан, из тех сааааамых, немеееецких Шшшпииильманооов.
Он даже иногда вставал перед зеркалом и, как-то бойко задрав голову, поправлял концертную бабочку.
На самом деле его, конечно, звали просто «Яша» или просто «Шпильман». Чаще «эй, Шпильман». А иногда «жид». Но в основном, «Яшенька, дорогой» или «Яшенька, не забудь надеть шарф».
Жил он в тесной комнатке глубоко во дворах, в верхних коммунальных этажах, в мглистых стенах с повидавшими виды обоями, с нескончаемыми шкафами и полками, где классическая литература, часто целыми собраниями сочинений, как семьями, соседствовала с чашками из перебитых за много лет чайных и кофейных сервизов. Жил и жил, выходил с утра за газетой к почтовому ящику. Вечером заваривал слабенький чай. Слушал, как водопроводные трубы заливались руладами, особенно по ночам, когда и так невозможно было уснуть из-за наваждения белых ночей. Спал под верблюжьим пледом из облезлого верблюда. Пледу было столько лет, сколько верблюды не живут, и потому в те дни, когда отопления еще не включали, а мороз крепчал, сон не шел, шла музыка. Сквозила из щербатых плохо заклеенных окон, звенела звездами, пела ветрами, струилась ливнями, наплывала туманами.
Однако это была своя, совсем своя, отдельная комната! Без тётиритиных «надеть шарф» и дядиных очков, оставленных в самых неожиданных местах.
Комната принадлежала ранее какой-то многоюродной яшиной бабушке и досталась ему в наследство в результате долгого и, в основном, безрезультатного хождения по похоронам.
Первое, что увидели Яша, тётя Рита и дядя Лева, когда открыли дверь комнатки – было фатальным падением огромной хрустальной люстры вместе с куском потолка.
Тётя вскрикнула как школьница, после чего, глядя на оседающее облако извёстки, смогла потрясенно выдавить лишь:
– Яшенька, кажется, здесь нужен небольшой рэмонт.
Если бы та бабушка не умерла от инсульта, ее бы убило люстрой.
Яша находил хрустальные осколки на полу изо дня в день. Они норовили впиться в пятку в тот самый редкий момент, когда он из ботинок перебирался в тапочки. Осколки были молчаливым укором наследства.
Тётя заботилась о Яше, берегла его хрупкие руки. Говорила, что эти руки – его хлеб, музыка – хлеб. И потому потолок ему заделывал дядя Соломон, тётиритин деверь, который все равно им что-то был должен. Тётя по настроению в шутку называла его «левир» или «явам», а Яша с детства переиначивал «левир» и «явам» в «ливер» за любовь дяди Соломона к ливерной колбасе и в «тынам» за постоянную помощь с тетиными «рэмонтами».
– Ну не сидеть же тебе под голой лампочкой, право! – всплеснула руками тётя, когда рэмонт был завершен. И с ее антресолей был извлечен и разогнут старый абажур. Когда Яша увидел кособокий выцветший абажур впервые, его посетила мысль, что под голой лампочкой ему было бы куда уютнее.
*****
Евреи в концертных залах играли на больших музыкальных инструментах. Чем меньше был еврей, тем больше инструмент, чтобы потом долго тащить чехол на себе через все переходы метро, по всем лужам у троллейбусных и трамвайных остановок – как гроб для собственной гордости. А потом дома, на кухне получить венец бульонного запаха и тарелку клёцек в супе без курицы – за гений, за труды.
Гениями не становятся. Гениями рождаются.
Гениев будят по утрам словами «вставай, сынок, мой гений», а также словами «ну и ты, Яша, вставай».
Гений вырастает в коммунальной квартире, в трёх тётиных комнатах, где шум радиоприемника заглушает человеческие голоса, под присмотром дяди, тёти и сердобольных соседей, среди старших более гениальных двоюродных братьев, гения всегда засмеивают и ему на тарелку складывают из ухи глухонемые рыбьи головы с белыми мёртвыми глазами.
Тётя Рита, женщина с очень пышным бюстом, с фигурой конусом вверх и важным лицом, которая прежде к Яше оставалась совершенно равнодушной, после исчезновения сыновей яро взялась за его воспитание. Чтобы не пропал хотя бы один мальчик, пусть и не совсем свой.
Яша побаивался тёти, пока дядя Лёва не объяснил ему, что этой женщине не важен был смысл слов, ей важна была только интонация: если нежно попросить её свернуть горы, она пойдёт их сворачивать. И бережно, со всей ответственностью, свернёт!
Дядя Лёва был высокий и большой, и над Яшей всегда возвышался.
У дяди Лёвы были интеллигентного вида торжественные уши. Уши как уши, но что-то в них было такое… торжественное. Какой-то особый изгиб и, конечно же, цвет. Цвет такой, будто у хозяина ушей каждый день был днём рождения или будто бы его ругали с завидным постоянством. А тётя Рита, надо сказать, никогда не скупилась на ругательства.