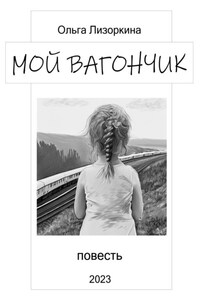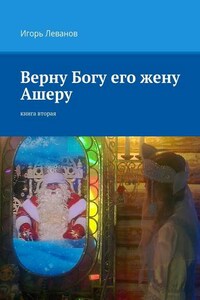© Лиза Шмидт, 2020
ISBN 978-5-4498-3394-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Он приходит сюда, тихий и подавленный, как ангел, спустившийся с небес. Ступает тихо, и когда увидишь его, обернувшись, обязательно испугаешься.
Растянутая безразмерная толстовка, молодежные зауженные джинсы, которые подчеркивают худобу. В солнечных лучах вьется сигаретный дым.
Он закладывает листьями книги, которые читает. Закладывает исписанные тетради колосьями травы. Что он там пишет? Через плечо не разобрать. Какие-то списки? Номера?
Курит сигареты, пьет кофе в кофейне на углу. Этот ужасный кислый кофе. Что-то шепчет бариста Каролине на ушко, будто они старые знакомые. Никак не расслышать.
По утрам он проходит этой улицей. Кеды в пыли. Щурится словно кот. Стреляет сигареты.
Таких называют молодыми и глупыми.
Таких легко обмануть.
Такие многое принимают на веру.
Я окликаю его:
– Данил!
Он оборачивается:
– Здравствуйте, Марина, – и пытается улыбнуться, но у него не выходит, хотя он очень старается.
Он из тех молодых людей, что, не глядя, могут собрать кубик Рубика, но о жизни не знают ничего.
Не давая ни малейшей надежды на встречу, она появляется обычно как бы невзначай среди легких весенних деревьев на углу, поправляет свою вечную шляпку родом из шестидесятых. И сама легкая, с легкими волнами коротких белоснежных кудрей, в бордовом плаще, с брошью под горлом и в совершенно нелепых ботинках, похожих на калоши. Озирается, будто ищет что-то, и уверенно переходит улицу на красный сигнал светофора. Утренняя улица с воркующими голубями на парапетах, тихая, дремотная. Светофор сонно моргает, солнце ленно вскарабкивается на крыши.
Кофейня в утренней густой тени.
Мое утро – это кофе.
На дне чашки отвратительного эспрессо – кофейная гуща.
Если спросить у бариста Павла (да, вот у этого большого широкоплечего парня с бородой, которая вызывает зависть), он обязательно расскажет, что означают те или иные фигуры, он очень суеверен.
На дне чашки стая птиц. Вверх дном. Оставить чашку перевернутой и уйти из густой кофейной мглы в густые утренние тени. Не слушать ничего про дурные предзнаменования.
Догнать Марину, коснуться ее локтя, услышать:
– Доброе утро, дружок. Как поживаешь?
Словно коснулся крыла.
И мир в одну секунду перевернется с ног на голову. Картинная галерея? Багетная мастерская? Квартира, в которой частники торгуют каким-то неимоверным количеством оттенков синей масляной краски? Возможность оценить частную коллекцию штифтов? Мастерские художников в богом забытых мансардах? Союз художников на каких-то далеких линиях Васьки?
С легкостью и простотой входить в чужие дома, жизни, соглашаться на золотой утренний чай, сидеть под форточками на свежем раннем сквозняке. Садиться за стол со стороны окна, чтобы удобней было курить.
А потом прощаться с ней на углах улиц по часу, а то и по два, докуривать сигареты, чтобы вечером, под ледяным пронизывающим дождем выбежать за новой пачкой до лавки на углу и на диких попутках уехать в другой конец города и пить ром, бесконечно много рома, проснуться в незнакомом месте и потеряться там, где не желаешь знать ни своего имени, ни своего места. И остановиться напротив комнаты с открытым окном, за которым в незабываемом блеске карнизов плывет новое утро, и голуби славят его, и воробьи, и скворцы, и синицы, весь этот разноголосый утренний птичий хор.
Открытое окно, колышущаяся занавеска, опустевшая сигаретная пачка.
И кажется, что я ненастоящий, а настоящее там, за окном. Настоящее острие шпиля, словно иголка Марины. Блестит золотом, только через ушко надо протянуть молочно-белую нить, и Марина обязательно сделает несколько новых облачных рядов в вышивке болгарским крестом.
Они приходили во снах. Они не давали мне спать по ночам. Что мне еще оставалось? Ночь, все стадии стареющей луны, отекшие веки, редкие ресницы.
Они являлись каждую ночь. Стоило только закрыть глаза, они появлялись и не уходили. Стояли в изголовье. Молчали. Всегда молчали. Не слышала от них ни единого слова.
От них было несколько средств:
1) зажженный свет (отблеск в окне, танцующие ночные бабочки у плафона);
2) музыка (под музыку военных лет они, сурово молчаливые калеки, выходили полутенями в центр комнаты, под самый абажур, и, поклонившись, начинали двигаться в такт, иногда танцевали парами, поддерживая друг друга, изувеченные, немощные, несчастные);
3) слезы (отойти к окну, смотреть сквозь свое отражение в непроглядную ночь, во тьму, во мрак, в прошлое, на свою ложь, отойти и беззвучно плакать, как могут только молодые девушки, – но это сложно, надо уметь, уметь! – иначе мои несчастные не оставят меня ни на минуту).
Я в смятении выходила на улицу. Часами плутала по городу. До боли в ногах. До изнеможения. Они преследовали меня, сколько могли, но скоро отставали.
Как я выглядела со стороны в два, в три часа ночи? Малюсенькая старушенция со своим ридикюлем, в вязаной светлой накидке, бредущая меж деревьев сквера, где деревья – мои ровесники, под темными арками домов, где шаги звучат пугающим эхом прошлого. Будто сама чей-то призрак из прошлого и сама не даю кому-нибудь спать. Преследую воспоминанием, фотокарточкой, строчкой из письма, той самой, что оказалась на сгибе и затерлась.
Я слышала разговоры о мертвых. О них любили говорить ночами. Разговоры о потерянных мужьях, женах, родителях, детях. О братьях и сестрах, о друзьях. О домашних питомцах.
Мои мертвые грузом лежали у меня на сердце. Будто там они и похоронены. Будто мне одной – одной мне! – было дозволено помнить о них, любить их, думать о них. Но не воскрешая их в воспоминаниях, как принято, нет. Наоборот, делая их еще более мертвыми, несуществующими и потому любимыми. Так любят книжных героев, так любят героев полотен великих мастеров, героев кинофильмов.
Самое страшное слово – никогда.
Ничего и никогда.
Может ли быть что-то страшнее?
Моя ложь. Моя любовь. Моя привязанность. Я сама. Я хуже, чем никогда. Глубже, темнее. Бездонный колодец, в который падают звезды. Если бросить в него камень – ждать всплеска бесполезно: там нет дна.
Кроме этой черной дыры, во мне не было ничего.
Выпотрошенная старуха. Пустая оболочка. Куколка от бабочки. Старый безобразный кокон.
Я не знаю, что делаю со своей жизнью. Я не знаю, зачем.
Мне хочется что-то сломать, разрушить, но я не хочу причинять никому вреда, посему медитативно, уверенно и безостановочно гроблю свою жизнь. Я не вижу в ней смысла.
Смысл – это больше по части Марины.
Ночь была ветреная, холодная, шальная. Хотелось завернуться в одеяло, хотелось попить горячего, хотелось простого человеческого тепла. Зашла в соседнюю кофейню купить кофе. Залы были пусты, сонный бариста Павел, все руки в татуировках, как это у них модно, серьга в ухе, борода, как всегда, был со мною приветлив. С ним – тонкая девочка с выдуманным ненастоящим именем Каролина, в свитере-балахоне и огромных ботинках. Растрепанное каре, усталые глаза. От нее пахло сигаретами, она была чем-то расстроена, но не говорила. Не ее смена, но сидела здесь, читала книжку.