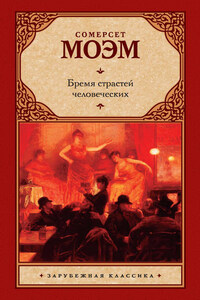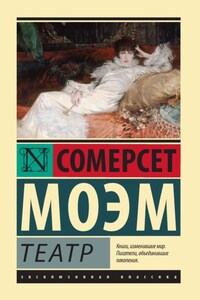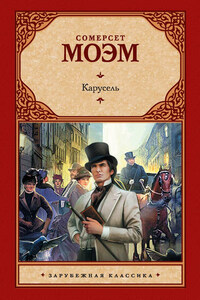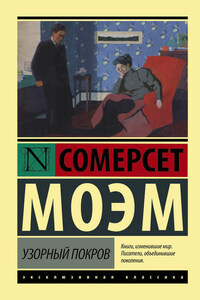Глава I
На море стоял мертвый штиль. Ни единого корабля, лишь силуэты чаек замерли над монотонно-серой водой. Хотя небо заволокли грозовые тучи, ветра не было. Вдали виднелась чистая линия горизонта. Столь же пустынный галечный берег был густо усеян спутанными пучками водорослей, а бесчисленные раковины крошились под ногами. Волноломы, призванные остановить неутомимую стихию, сгнили и позеленели от морской тины. Унылая, безрадостная сцена – но было в ней какое-то спокойствие; а мертвая тишина и неброские тусклые краски могли бы принести мир израненной душе. Однако мук одинокой женщины на берегу им было не смягчить. Она не шевелилась, ее уверенный взгляд смотрел в никуда. Природа не знает ни любви, ни ненависти; она улыбается всякому, у кого на душе легко; несчастного же делает печальнее. Какая горькая насмешка: рассудительный Эпикур, полагавший, что боги, свободные от человеческих страстей, живут в своих небесных дворцах, не зная печали, надежды и отчаянья, вдали от бурлящей человеческой толпы, вошел в историю как приверженец необузданных удовольствий.
Впрочем, безмолвная гостья не нуждалась в утешении. Суровая гордость побуждала ее искать опоры лишь в самой себе, и даже когда невольная слеза тяжело скатывалась по щеке, она лишь нетерпеливо встряхивала головой. Глубоко вдохнув, женщина решительно приказала себе сменить тему размышлений.
Но нет, от ярких воспоминаний было не отвлечься. Разум ее, словно почтовый голубь, уносился на легких крыльях к иному берегу, а морская тишь напоминала совсем о другом море. Пролив Солент… Гладь залива вошла в ее жизнь с раннего детства, и вот теперь спокойные воды у самых ног неудержимо будили в памяти знакомые картины. Тихие волны омывали берега Гемпшира с очаровательной, нигде более не виданной настойчивостью, и пусть водному простору недоставало безграничного величия открытого моря, он был таким родным и привычным… К тому же пролив нес в себе частичку соленой свежести океана, и стоило окинуть его взглядом, дух сразу перехватывало от ощущения свободы. Иногда, сумеречными зимними вечерами Солент представал в ее памяти столь же безжизненным, как раскинувшееся сейчас у ног Кентское море, однако воображение всегда наполняло его кораблями, спешащими то в родной порт, то в открытое море. Она любила их все до одного. Любила огромные пароходы, что пересекали океан с пассажирами и грузом, не боясь ни ветра, ни волн; ночами же, когда в темноте виднелась лишь длинная цепочка огней, ее завораживала мысль, что на борту тысяча человеческих душ, и они направляются в полную неизвестность. Любила пыхтящие паромчики, на которых окрестный люд отправлялся в Саутгемптон: кто за покупками, а кто с плодами фермерского труда на продажу; она дружила со всеми здоровяками-капитанами и обожала их неизменно важный вид. Любила рыбачьи лодки, что выходили в море в любую погоду, и элегантные яхты, проносившиеся по заливу с утонченной грацией. Любила тяжелые барки и бригантины, что скользили с торжественной легкостью под всеми парусами, ловя легчайшее дуновение бриза – они были как величавые птицы и неизменно наполняли ее душу радостью. Но больше всего она любила грузовые пароходы, которые с мрачным, несгибаемым упорством ползли из порта в порт – большей частью угловатые и уродливые, потрепанные стихией, грязные или плохо покрашенные… И все же сердце ее принадлежало им, чья судьба казалась столь незавидной. Молодой капитан никогда не восхитился бы их элегантными обводами, и сердце его не забилось бы от случайного взгляда на вдруг наполненный ветром парус; ни один пассажир не похвалил бы их за скорость и красоту. Эти честные торговцы, трудолюбивые и надежные, смело встречали бурю и каждый день смотрели в лицо опасности, не жалуясь на судьбу. Она безошибочно улавливала в их скромном повседневном труде – романтику, а в молчаливом труде – красоту, и часто, наблюдая за пароходами, она представляла себе диковинные товары в их трюмах и долгие экспедиции к чужим берегам. Они обладали особым неуловимым обаянием, поскольку путешествовали по южным морям, где белые города с кривыми улочками безмолвствуют под синим небом.
Так и не сумев избавиться от нахлынувшей острой тоски, одинокая женщина повернулась и зашагала по тропе через болота. На сердце было по-прежнему неспокойно: ей чудилось, будто она узнает эти места: домик береговой охраны, низины, неглубокие канавы, среди которых прошла вся ее жизнь. Тут и там щипали траву овцы, а пара пасущихся рядом лошадей окинула женщину безразличным взглядом. Вяло помахивала хвостом корова. Беспристрастному наблюдателю ровные и однообразные берега Кента показались бы попросту скучными, она же находила их прекрасными. Побережье напоминало родной дом, который ей уже не суждено увидеть.
Именно к дому то и дело устремлялись мысли женщины. Прежде, скользнув где-то по самому краю, ум ее неизменно обращался к другим предметам; теперь же она полностью предалась воспоминаниям.
Аллертоны владели Хамлинс-Перлью три сотни лет, и надгробие, изображающее основателя династии вместе с двумя его женами в платьях с плоеными воротниками и жесткими лифами, до сих пор красовалось у алтаря приходской церкви. Скульптура работы итальянца, которого вместе с другими мастерами заманили в Англию строить капеллу Генриха VII, отличалась особой утонченностью Ренессанса и замечательно смотрелась в скромной англиканской церкви. На протяжении трех сотен лет Аллертонов отличали рассудительность, храбрость и достоинство, так что за это время стены церкви покрылись многочисленными свидетельствами их доблестей и успехов. Они породнились с окрестными семействами, и по этим мраморным табличкам можно было составить полный список гемпширской знати. Маддены из Брайса, Флетчеры из Хортон-Парка, Донси из Мейден-Холла, Гарроды из Пенды – все они когда-то выдавали своих дочерей за Аллертонов из Хамлинс-Перлью; и Аллертоны из Хамлинс-Перлью точно так же выдавали девушек с богатым приданым за Гарродов из Пенды, Донси из Мейден-Холла, Флетчеров из Хортон-Парка и Мадденов из Брайса.
С каждым поколением Аллертоны становились все высокомернее. Своеобразное географическое положение выделяло эту семью из всех соседей. Гарроды, Донси и Флетчеры могли пешком ходить друг к другу в гости, Мадден же из Брайса, самый родовитый и богатый, а потому – уважаемый джентльмен во всем графстве, жил милях в семи-восьми, тогда как поместье Хамлинс-Перлью лежало на берегу моря, отделенное от остальных лесами. Его хозяева жили обособленно и потому отличались характером от прочей знати. Они находили повод для гордости в обширности собственных владений. Пусть немалая их часть состояла из солончаковых болот, а еще большая из невозделанных пустошей, остальные были ничуть не хуже, чем у других землевладельцев Гемпшира, а общая площадь на бумаге смотрелась весьма внушительно. Однако главным поводом для самоуважения они считали уровень собственного развития. Ничто не питает гордость так сильно, как ум, и Аллертоны всегда почитали своих соседей невежами. То ли особое положение земли, где они родились и росли, выработало у них привычку к самонаблюдению, то ли что-то такое было у них в крови, но все Аллертоны интересовались умственными материями, которые никогда не беспокоили Флетчеров, Гарродов из Пенды, Донси, а также Мадденов из Брайса. Превосходные охотники, они скакали и стреляли наравне со всеми, но вдобавок читали книги и отличались остротой ума – сколь неожиданной, столь же и притягательной. Толстые окрестные сквайры считали Аллертонов светочами учености и за стаканом портвейна радовались, что среди них имеются люди, блестяще сочетающие благородное происхождение и мастерство наездника со здравым умом и энциклопедическими познаниями. Обстоятельства потворствовали тому, чтобы Аллертоны ценили себя чрезвычайно высоко.