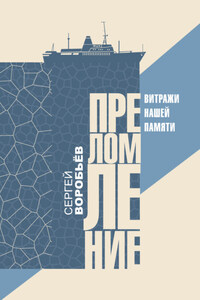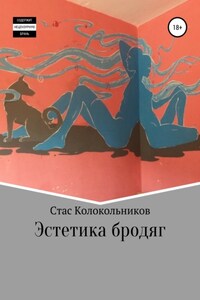Сколько ни живу, все не могу избыть обиды на судьбу, так скупо отмерившую Юрию Трифонову те его считанные годы, что пришлись на пору его творческого взлета. Наша литература осиротела, как сказал тогда какой-то писатель, имея в виду череду потерь, пришедшуюся именно на 80-е годы. И Трифонов в этом ряду был из первых. И хотя грандиозные подвижки – в быту, в сознании, в социальных отношениях, – начавшиеся вскоре после его ухода, перенесли нас фактически в другую, «послетрифоновскую», эпоху, боль от этой потери все еще саднит и тлеет. И пускай все мы родом из СССР, включая и тех, кто родился после его распада, но всё же люди в своей массе живут и думают теперь не совсем так, как когда-то, а потому и многое в этом прошлом видится им как сквозь утолщенное затуманенное стекло. Что же говорить о художественной литературе тех лет, особенно, как в случае с Трифоновым, намертво привязанной к реалиям позднесоветской эпохи. Между прочим, многие и смотрят сегодня на его творчество как на её литературный оттиск, теперешнему читателю уже мало созвучный, а потому и не слишком интересный.
В Википедии о Юрии Трифонове сказано так: «одна из главных фигур литературного процесса 1960-х –1970-х годов в СССР». То есть не вообще русской, советской литературы, а именно литературы конкретных десятилетий. Да, о жизни городской, столичной интеллигенции послевоенных десятилетий судят и будут судить в первую очередь по Трифонову, по таким его вещам, как «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной», потому что правдивей и глубже него никто эту жизнь не описал. Как ядовито заметил в своём дневнике Юрий Нагибин, «все, кого я ни читаю, – Трифоновы разного калибра. Грекова – Трифонов (наилучший), Маканин – Трифонов, Щербакова – Трифонов, Амлинский – Трифонов, и мой друг Карелин – Трифонов»1. Но ведь и о России последнего десятилетия XIX века мы судим прежде всего по Чехову, однако никому же не придёт в голову аттестовать Чехова как главную фигуру литературного процесса 1890-х годов, хотя это и правда.
В своё время ангажированная советская критика, почти так же, как некогда Чехова, упрекала Трифонова в заземленности, в увлечении бытописательством, и эти попрёки, надо сказать, не проходили бесследно.
– Я пишу о жизни и смерти, – недоумевал он, – а у меня находят один лишь быт. Пишу о любви, о долге, о человеческой порядочности, а мне опять вменяют в вину неспособность подняться над подробностями быта.
Да, что-то подобное происходило и с Чеховым. Его сразу полюбила читающая публика, но очень долго косилась в его сторону журнальная критика, видевшая в нём холодного натуралиста, «апостола беспринципности», бесстрастно фиксирующего неприглядные стороны современной ему действительности, не уравновешенной никакими позитивными идеалами. А всё дело было в новой художественной эстетике, до которой просто не дозрели некоторые из чеховских недоброжелателей.
И ещё одна параллель, невольно напрашивающаяся при сопоставлении этих двух авторов. Ведь, как известно, было два разных Чехова. Один – автор «Осколков» и «Будильника», легкий и плодовитый Антоша Чехонте, относившийся, по собственному его признанию, без должного уважения к своему таланту. И другой, каким он стал к 26-27 годам, постепенно вырастая из непритязательного газетно-журнального юмориста и превращаясь в глубокого и трезвого художника, безжалостно браковавшего плоды своего раннего творчества, значительную часть которого он даже не включил в собрание сочинений (это сделали без него полстолетия спустя, наплевав на его авторскую волю).
25-летний Юрий Трифонов заявил о себе как типичный литератор эпохи соцреализма. Его первая большая вещь «Студенты», получившая одобрение на самом верху, была удостоена Сталинской премии (впоследствии он говорил, что не отказывается ни от чего им написанного, но из повести «Студенты» не в состоянии прочесть больше двух страниц). А потом были полтора десятилетия мучительных поисков – себя, своего мироощущения, своего места в литературе и своей особой стилистики. За это время у него вышел большой роман «Утоление жажды» – о строителях Каракумского канала, сборник рассказов, серия очерков на спортивную тему, но всё это был ещё тот, по преимуществу старый Трифонов, с которым он окончательно распрощался лишь к концу 1960-х годов. И так же как для Чехова все его «Лошадиные фамилии», «Унтеры Пришибеевы» и пр. были лишь пробой сил, только подготовкой к предначертанному ему великому поприщу, так и проза Трифонова первых полутора десятилетий явилась для него своего рода предстартовой площадкой, испытательным полигоном, когда старое ещё цепко держало его в своих соцреалистических объятьях. И если бы не чудо его второго рождения, он был бы сегодня, скорее всего, забыт, а его творчество осталось бы достоянием одних историков литературы.
Новый Трифонов, которого мы так любим и ценим, начался с автобиографической повести «Отблеск костра», посвящённой памяти его репрессированного отца (вышла в 1967 г. отдельной книгой), но в особенности – с опубликованной «Новым миром» повести «Обмен» (1969 г.) и нескольких рассказов («Голубиная гибель» и др.). И тут нельзя не сказать о некоторой драматической несинхронности в творческой судьбе писателя.
Ведь всё написанное им после 1967-68 года с полным правом можно отнести к так называемой оттепельной прозе, хотя оттепель к тому моменту осталась уже позади. Как сказал однажды сам Трифонов, вернувшись из издательства, где подписывался в набор «Отблеск костра», «мною захлопнули дверь». Но в то время когда Твардовский открывал и переоткрывал своих новых авторов, поднявшихся на оттепельной волне, – Солженицына, Федора Абрамова, Георгия Владимова и др., – которых пестовал, как собственных детей, и которыми гордился, Трифонова, однако, «своим» не считал и к его творчеству относился безо всякого интереса. Хотя чувствовал в нём родственную душу и мог часами увлечённо беседовать, стоя у дачного заборчика – они были соседями в посёлке «Красная Пахра» – и обсуждая последние литературные новости, а нередко и выпивать. (Заметим в скобках, что именно Твардовский напечатал когда-то в «Новом мире» его повесть «Студенты» и даже выдвинул её на Сталинскую премию. Но то был другой «Новый мир», другой Твардовский и, вообще, совсем-совсем другая эпоха.) И когда Трифонов после 17-летнего перерыва вступил, наконец, на подножку поезда под названием «Новый мир», решив передать редакции сначала «Голубиную гибель», а затем и «Обмен», поезд этот отсчитывал уже последние километры пути, и Твардовскому, ушедшему с головой в борьбу за сохранение журнала, было уже, по большому счёту, не до него. И только этим можно объяснить прохладную реакцию главного редактора, принявшего к печати его первую «московскую» повесть.