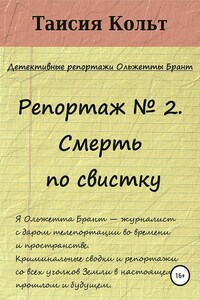«Вы когда-нибудь испытывали нечто, похожее на любовь? А может быть, Вы имели всеобщее признание или славу? Тогда Вы счастливец. А известно ли Вам, что такое, когда всего этого нет? Когда не умеешь любить ты, и не любят тебя? Не уметь любить самому – мучение гораздо большее, чем односторонняя привязанность и симпатия.
Это ни с чем несравнимая мука, которая обжигает Вас, словно залитая в глотку кислота. Да, не уметь чувствовать – именно так.
Испытывали ли Вы когда-либо презрение ко всему миру? Способны ли Вы предать за медный грош, убить за большие деньги, или ради идеи, во имя своей идеи? А ради искусства? Если нет, то Вы глубоко несчастны. Ваш внутренний мир ограничен добродетелью, и Вам не под силу познать всю искушающую красоту и величие зла.
Я не могу любить, но и страдать тоже – в этом моя сила, и это мое единственное оружие… Оружие, которое в конечном итоге обернется против меня… Но это я понял много позже… Да, я Вам не нравлюсь, и Вы испытываете ко мне презрение, но еще большее презрение испытываю к вам я, и в этом моя привилегия.
Пусть мое оружие выстрелило мне в спину, но на меня не нападал со спины верный друг, потому что таковых у меня нет. Мне – безжалостному чудовищу помог тот, которого я презирал в числе прочих, и который смог увидеть во мне нечто сокрытое от посторонних глаз, нечто нерушимое и человеческое. Да, он разглядел во мне человеческую сущность и стал моим палачом, совершая благо во имя меня, для меня, и против меня.»
12 марта 1898 года.
Молодой человек сидел за столом, склонившись над какими-то важными бумагами. Цифры, счета, графики – все для подготовки квартального отчета. Доран ненавидел свою работу, и старался как можно меньше времени уделять ей, большей частью предпочитая заниматься своим хобби. Из-за этого то и дело образовывались страшные бумажные завалы, которые он разгребал порой сутки напролет, иногда приглашая домой мать, чтоб та готовила ему еду, и приносила прямо в кабинет.
Доран отвлекся от работы и посмотрел в окно – старый двор был усыпан снегом. На улице было сыро и неприветливо. Завтра нужно будет идти на службу, и, скорее всего по такой же мерзкой погоде.
Он помрачнел пуще прежнего, встал и начал ходить по небольшой комнате, уставленной книжными шкафами. Старый паркет поскрипывал то и дело под каждым его нетяжелым шагом.
Доран был джентльменом среднего роста, около 170 см, светловолосый, с красивым точеным лицом, белоснежной кожей, которая досталась ему по наследству от славной ирландской фамилии. Он всю жизнь ненавидел свой нос с горбинкой и, как ему казалось слишком большие серые глаза. Доран был очень худой, опять же, как ему казалось, даже излишне.
Он был все еще одет в пижаму и домашний халат, хотя на часах было уже 10 утра. Коротко стриженые волосы торчали в разные стороны, а очки съехали с носа и готовы были вот-вот упасть, но этого не происходило. Помимо книжных шкафов, комната, а точнее будет сказать, рабочий кабинет Дорана, был уставлен «башнями» из газет и бумаг, и картинными полотнами, прикрытыми белой тканью. Внезапно в дверь к нему постучали и прервали его «хождение по мукам»:
– Кто там?
– Это я, Эрнест.
Доран недовольно поморщился, но все же подошел, открыл замок массивной дубовой двери и впустил стучавшего. Эрнест был представительным молодым человеком, и, в отличие от брата, подававшим надежды на светлое будущее. Чем-то похож на него внешне, но выше ростом, с темно-каштановыми волосами, одет слегка неряшливо. Имел пагубную, как казалось Дорану привычку, забывать чистить обувь. Вообще говоря, Доран ненавидел человеческие недостатки всей душой, но деликатно умалчивал об этом. Вот и сейчас он просто выразительно посмотрел на пыльные ботинки брата и сказал:
– Не ожидал увидеть тебя так рано. Насколько мне известно, в такое время ты вставать не имеешь обыкновения.
– Ошибаешься, – сказал Эрнест, снимая пальто и вешая его на спинку стула, заваленного бумажными папками, – эту пагубную привычку я отсек от своего бренного существования, еще будучи в Оксфорде. – Он присел на диван и внимательно посмотрел на закурившего трубку брата. – А ты все так же творишь эти бессмысленные вещи?
– Искусство не может быть бессмысленным.
– Ну, бесполезные вещи.
– Искусство не может быть бесполезным.
– Ну хорошо, кому нужны твои картины?
– Вот увидишь, настанет миг, и они прославят меня на весь мир!
– Хорошо. – Эрнест одобрительно улыбнулся. – Я обязательно приду на презентацию твоей коллекции, которую ты даже родному брату не соизволил показать.
– Настоящее искусство не нуждается в предварительной огласке. Ты обещал молчать.
– Ты так серьезен, Доран, что ты меня пугаешь своей серьезностью, откровенно говоря.
– Перестань, – он добродушно улыбнулся, – все творческие люди эмоциональны! Тем более, кто как не ты знает, насколько я добродушен!
Они поговорили еще немного, но Эрнеста ждали дела, потому он быстро попрощался с братом, оделся и вышел в прихожую.
– Доран!… Я чуть не покалечился, нельзя же так разбрасывать обувь!… Женскую… Ты не сказал, что не один!
– Ну, должны же у меня быть хоть какие-то тайны. – Сказал Доран, стоя в дверном проеме прихожей. Он широко и коротко улыбнулся брату.
– Ну, конечно же, должны. Надеюсь, в скором времени ты нас познакомишь. – Он подмигнул Дорану.
– Всенепременнейше, мой дорогой братец! – Сказал он, открывая Эрнесту дверь в парадное. Затем они с братом обменялись дружескими рукопожатиями, Доран закрыл на три замка и засов входную дверь. Потом его взгляд упал на милые черные ботиночки на каблуке с пряжками. Он наклонился, поднял их, затем отнес к себе в комнату и бросил на дно большого старинного резного сундука. После чего прошел к своему письменному столу и снова принялся за скучную, рутинную, далекую от высокого искусства работу в мире цифр и подсчетов.
Он медленно шагал по вечерней улице, домой идти не хотелось. Понедельник как всегда стал самым мерзким днем его жизни. Мать обозвала его ни на что не способным неудачником, а лучший друг сказал, что не его это дело – рисовать картины. Да что он знает о его искусстве!!! Что он вообще в нем смыслит? Искусство смерти – ах, как она прекрасна и величественна! Об этом знал только Доран, и больше никто. Да, он любил ее, а она его остерегалась и боялась, вот за это, пожалуй, он ее боготворил, да, она была его религией, она была его музой!
Доран родился, когда его мать была на шестом месяце беременности, но смерть не забрала его. Во втором классе он подхватил воспаление легких, когда они с родителями ездили в Ирландию, но и тогда она страшилась прямой встречи с ним, она лишь удостоила его своим приветственным кивком, не более того.