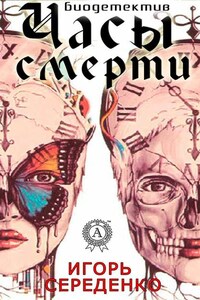Держась обеими руками, чтобы не свалиться, – в прошлый раз, когда он упал, зацепившись за бордюр, была невыносимая боль, он думал, что концы отдаст, но бог миловал, – он прекратил рыться в мусорном баке и поднял голову. Что-то легкое, мимолетное вырвалось из глубин его измятой памяти и с шумом ядовито проскользнуло наружу. Он вздрогнул от каких-то смутных воспоминаний, вызванных этим бурым кирпичным четырехэтажным домом. Опуская взгляд, он почувствовал, что со сменой картины и воспоминания рассеялись, как легкий сон. Он продолжил копаться в груде мусора, скопленного за два дня. Под засаленной тряпкой он обнаружил буханку хлеба, не тронутую человеком, но черствую. Вот это находка! – отозвалось эхо радости в его притупленном, туманном сознании. Хлеб, напоминающий, скорее холодный кирпич, чем полезную еду, не имеющей запаха, потерявшего вкус и свежесть, он положил на сложенные и завязанные стопкой картонки, которые были когда-то коробкой. Во втором мусорном контейнере он обнаружил четверть колбасы, отрезанной ножом, но уже покрывшейся белым налетом. Несъедобно, испорчено, – подумал бы каждый, но не он, – опасно для здоровья. Но разве он думал о том, чего у него давно не было, а ведь ему едва исполнилось двадцать семь лет. Обтерев колбасу рукавом видавшей виды куртки, он положил ее рядом с буханкой хлеба. Он уже собирался уходить, как вдруг увидел что-то блестящее рядом с контейнерным баком. Это была банка с засоленными огурцами, не мутная, с целой крышкой. «Вот будет сегодня ужин!» – подумал он. Собрав свои находки в мятый кулек, из которого также воняло, как из самого бака, – но к этой вони он уже привык, – он взял стопку картонок в одну руку, а кулек с едой в другую и, не поднимая головы, осторожно шагая, побрел в направлении Привоза.
Была холодная осень, ледяной ветер, не сильный, но пробирающий до костей, безжалостно жалил. Но эта боль заглушалась другой – в ноге, в голеностопном суставе. Поэтому он шел медленно, осторожно ступая. Каждый десятый шаг был болезненным. Причину боли он не знал, но помнил, что этот кошмар начался одним утром, когда он стал на ступеньки лестницы, чтобы сойти вниз. Жил он у самого чердака, возле теплой трубы, греющей ему спину.
Куртка, висевшая на нем, как на огородном пугале, была разорвана сбоку и заштопана в двух местах, закрывала его исхудавшее молодое тело до бедер; брюки были той же свежести и новизны, что и куртка, широки в талии и разорванные у стопы, их он подвязывал найденным, как и всё остальное свое добро, в контейнере с мусором. Иногда он удивлялся: зачем это люди выбрасывают подержанную одежду, ведь еще можно было носить.
Когда он появился в молочном корпусе рынка, где людей было больше, чем пчел в улье, пробираясь в толпе толкающихся тел, заглядывая за спины, он исступленно, облизывая губы, поглядывал на свежий сыр и творог, набивающий его ноздри невыносимыми, манящими запахами, от которых он чувствовал безумное желание вцепиться зубами в мягкий, сочный продукт и высмоктать его. Он знал, что здесь ему ничего не дадут, а прогонят руганью и пинками, чтобы он своим присутствием не испугал покупателей, – так страшен он стал. Иногда ему это нравилось, забавляло, ему казалось, что хоть так его замечали, и… он замечал, что все еще существует. Не нужный, не замеченный, но отвергаемый, раздражающий, воздействующий лишь одним своим присутствием. Но все же он каждую неделю любил здесь бывать. Дело в том, что унося с собой пинки, сопровождающиеся отборным матом и злобным, полным отвращения взглядами, он уносил с собой и те искушающие, сладостные и сочные ароматы свежих питательных продуктов, напоминающих ему счастливые, давно угасшие, призрачные дни.
Вот и в это раз, его выпихнули из рядов, прогнали наружу, пригрозив, что, если он появится еще раз, из его рыла сделают фарш. У входа в молочный корпус на ступеньках сидели бабки, продавая свой или скупленный в селе товар.
Он шел медленно, боясь почувствовать боль в ступне, опускаясь по ступенькам, и стараясь никого не задеть. Впрочем, люди и сами его обходили, прикрывая нос рукой, чтобы зловонный запах от молодого человека с кучерявыми темными сбившимися в пучки волосами и длинным, как у цапли носом, не проник в их тела сквозь ноздри, уже впитавшими запахи свежих продуктов. Их пугал сам контраст: от аромата свежести к вонючему терпкому запаху мужского пота в купе с высохшей на брючине мочой молодого человека.
Сидящие на ящиках или на смятых, сложенных в несколько раз вещах на ступеньках, бабки в оба глаза с жалостью, переплетенной с брезгливостью, смотрели на него, а кто одним глазом, как курицы.
– Иди, иди быстрее! – сказала одна полная женщина лет сорока пяти, поправляя зеленые яблоки в деревянном ящике, стоящем перед ней. – И не думай останавливаться, – пригрозила она ему.
Ее соседка поддержала ее слова, звонко рассмеявшись молодому человеку в спину, когда тот осторожно сходил с последней ступеньки.
– Ишь, вылупился!
Третью женщину он тронул своим видом, и хоть она испытывала тревогу, когда он приблизился к ней, взяла с корзины красное яблоко и молча протянула ему. Он поднял руку, и, из широкого рукава вылезла белая исхудалая кисть, схватив костлявыми пальцами яблоко. Он наклонился, тихо пропищав:
– Спасибо, бабуленька.
Уже на выходе из Привоза, какой-то армянин, торговавший бананами, сунул ему в карман куртки два небольших банана, чуть тронутых чернотой.
Бананы оказались довольно вкусными, он съел их и яблоко по дороге домой. Шел он по лужам – остатки ночного дождя – не стараясь обойти их, ступая, словно их и не было.
На четвертом этаже, где тускло освещала одна лампочка, под самой крыше, в углу, где проходила теплая труба, он разложил картонки, служившие ему постелью, вынул из кулька свой скудный ужин. Из кармана достал старый раскладной ножик. Промучившись с банкой огурцов, он все же открыл ее, проделав в крышке с десяток дырок и вывернув ее содержимое наружу – саму крышку он снять не смог.
Буханку хлеба, ставшей по твердости не мягче дерева, он положил в вырезанную из пластиковой бутылки емкость, служивую ему посудой. Из котячьей мисочки, которую он обнаружил на третьем этаже, из которой пил уличный кот, нашедший приют в этой же парадной и обласканный жильцами, он перелил в свою посуду остаток воды, залив хлеб. Эту емкость с хлебом и водой он положил на теплую трубу, рядом с собой, чтобы хлеб размяк.
Затем он высосал сок из банки с огурцами, высосал нарезанные дольками кусочки колбасы, проглотив некоторые, по неосторожности, почти целиком. Спустя время, когда за небольшим квадратным окном он услышал стук дождя, а по сточной трубе с крыши зашуршал, а потом забарабанил поток стекающей воды, он стал отрезать перочинным ножиком ломти хлеба, съедая их вместе с солеными огурцами, вынутыми ножиком из отверстия в крышке стеклянной банки.