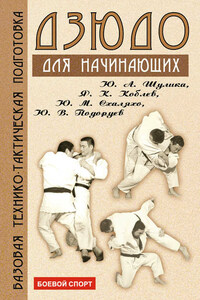Папа говорил на тарабарском языке. Папа был в гипогликемической коме. В вене его торчала игла, толстый дядя в белом халате вводил глюкозу. Он спросил:
– Ваш отец мадьяр?
– Нет.
– Он читает стихи Петефи, по-мадьярски, – задумчиво сказал доктор. – Хорошо знает язык!
– Нет, – сказала мама, – он вообще языка не знает.
– Знает, – сказал доктор. – И – хорошо. Я венгр.
Спустя время я рассказала об этом отцу. Он удивился. Задумался. И поведал историю, после которой мне захотелось побывать в местах, о которых вспоминал папа. Найти памятник Шандору Петефи на берегу Дуная.
Я сразу увидела его, выйдя из машины в Будапеште, – сумасшедше красивого бронзового поэта. Он одиннадцать дней первым встречал меня по утрам и провожал по вечерам, а в промежутке была – Венгрия.
…С чердака игрушечного дома строчит пулемёт. Бой идёт на площади у городской ратуши, где домик синий соперничает с домиком жёлтым яростью красок. Припадая на левую ногу, натёртую новым хромовым сапогом, молоденький капитан бежит за усатым ординарцем, не поспевая. Потом ординарец станет толстым председателем колхоза. А капитан – моим отцом.
Всё происходит быстро и сразу. Они взбегают на чердак, папа стреляет в пулемётчика, и, как внезапная летучая мышь, из тени выскакивает женщина. Федька, ординарец, бросается вперёд и вбок, собою прикрывает командира. Автоматная очередь. Фёдор падает. Женщина мечется, крича, раскинув крыльями руки. Над отброшенным автоматом дымок, как над чашкой чая.
…Белая скатерть вышита гладью, поле лиловых анютиных глазок на круглом столе. Сидят за столом черноглазые дети, пьют чай из фарфоровых чашек. Смеющаяся женщина держит на коленях младшенького, вытирает ему, пускающему пузыри, беззубый рот.
Папа головой трясёт, отгоняя видение. Федька лежит – и розовая пена пузырится в его пшеничных усах. Четыре пули вошли и остались в Федоре. Папа переступает через ординарца и идёт убивать женщину.
…Пододвинули чашку, варенье в блюдечке…
Детей у женщины трое, мал мала меньше. Папа смотрит на тонкие пальчики младенца. Женщина замерла. Убивать стало некого.
Отец возвращается к Фёдору, уже опустившему поголубевшие веки, и тащит его вниз, взвалив на спину.
Женщина догоняет на лестничном пролёте, прижимается к стене и, задевая папу горячим телом, протискивается, протягивает папе маленький немецкий вальтер, требуя непонятного. Потом кричать перестаёт, внятно, настойчиво говорит: «Пуф». «Пуф», повторяет громче и опять кричит: «Пуф»! Верещат дети. Папа идёт прямо на неё, а она отступает, пятится, наставив на папу дрожащий пистолет и – падает. Папа не останавливается.
Я запомнила, случилось это в Секешвехерваре, в одном из домиков на центральной площади, в 1945 году.
Спустя время, папа возвращается в этот домик, и женщина не кричит на него, а из сложного чувства ненависти и удивления закрывает лицо руками. Говорит еле слышно:
– Он защищал свой дом, почему, почему ты, – она бьёт отца ребром ладошки, – не застрелил всех, что теперь делать?
Дети стоят, смотрят чёрными глазами. Молча.
Постепенно, из-за материнского инстинкта – необходимости выжить, женщина привыкла брать у папы его офицерский паёк. И подарила пистолет, из которого хотела убить, но не убила.
Её муж не был фашистом. Он был мобилизованным мадьярским солдатом немецкой армии, так сложилась его венгерская жизнь. Она же любила его, и ещё любила национального поэта, героического офицера, скончавшегося от боевых ран в позапрошлом веке, – Шандора Петефи.