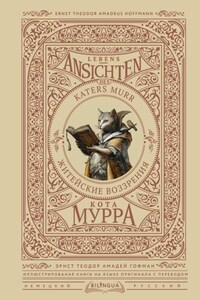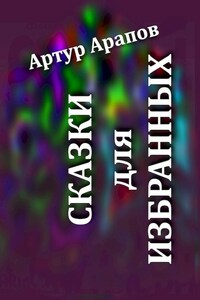Введение, из коего благосклонный читатель узнаёт о жизни господина Перегринуса Тиса ровно столько, сколько ему нужно знать. – Рождественская ёлка у переплётчика Лэммерхирта в Кальбахской улице и начало первого приключения. – Две Алины.
Однажды – но какой автор ныне отважится начать так свой рассказ. «Старо! Скучно!» – восклицает благосклонный или, скорее, неблагосклонный читатель, который, согласно мудрому совету древнеримского поэта, хочет сразу же быть перенесённым medias in res. Ему становится так же не по себе, как если бы вошёл к нему болтливый гость и расселся и стал бы откашливаться, собираясь приступить к своей нескончаемой речи, – он захлопывает с досады книгу, только что им раскрытую. Издатель чудесной сказки о Повелителе блох полагает, правда, что такое начало очень хорошо, что оно, собственно говоря, даже наилучшее для всякого повествования – недаром самые искусные сказочницы, как нянюшки, бабушки и прочие, искони приступали так к своим сказкам, – но так как каждый автор пишет преимущественно для того, чтобы его читали, то он (то есть вышеуказанный издатель) вовсе не хочет отнимать у благосклонного читателя удовольствия быть действительно его читателем. Посему сообщает он ему сразу безо всяких околичностей, что у того самого Перегринуса Тиса, о странной судьбе которого будет идти здесь речь, ни в один из рождественских сочельников сердце не билось так сильно от тревожной радости ожидания, как именно в тот, с коего начинается рассказ о его приключениях.
Перегринус находился в тёмной комнате, прилегавшей к парадной зале, где для него обыкновенно приготовлялись святочные подарки. Он то бродил по ней осторожно взад и вперёд и прислушивался, подходя к двери, к тому, что за ней делалось, то усаживался смирно в угол и, закрывши глаза, вдыхал мистические благоухания марципана и пряников, струившиеся из соседней комнаты. Когда же, сразу опять открыв глаза, он бывал ослеплён яркими лучами, прыгавшими туда и сюда по стене, пробиваясь сквозь дверные щели, то его охватывал сладостный таинственный трепет.
Наконец прозвенел серебряный колокольчик, двери распахнулись, и Перегринус устремился в целое пламенное море из сверкающих огоньков пёстрых рождественских свечей. Оцепенев, замер Перегринус у стола, на котором в самом стройном порядке были расставлены прекраснейшие подарки, только громкое «ах!» вырвалось из его груди. Никогда ещё святочное дерево не приносило таких богатых плодов: всевозможные сласти, какие только можно себе представить, и среди них золотые орехи, золотые яблоки из Гесперидовых садов, висели на ветвях, сгибавшихся под сладким их бременем. Нельзя описать всех отборнейших игрушек, прелестного оловянного войска, такой же охоты, развёрнутых книжек с картинками и так далее. Он все ещё не осмеливался дотронуться до какого-нибудь из этих сокровищ, он старался только превозмочь своё изумление, освоиться с мыслью о том счастье, что всё это действительно ему принадлежит.
– О милые мои родители! о добрая моя Алина! – воскликнул Перегринус с чувством величайшего восторга.
– Ну, хорошо я всё устроила, Перегринчик? – отвечала Алина. – Радуешься ли ты, дитя моё? Не хочешь ли ты поближе рассмотреть все эти чудные подарки, не хочешь ли ты попробовать твою новую рыжую лошадку?
– Превосходная лошадь, – говорил Перегринус, со слезами радости рассматривая взнузданного деревянного конька, – превосходная лошадь, чистокровной арабской породы. – И он тут же вскочил на своего благородного, гордого коня; Перегринус вообще был прекрасным наездником, но на этот раз он что-то оплошал, потому что ретивый Понтифекс (так звали коня), храпя, поднялся на дыбы, и седок полетел вверх ногами. Испуганная до смерти Алина не успела броситься к нему на помощь, как Перегринус уже вскочил и схватил за узду коня, который, брыкнув задними ногами, чуть было не ускакал. Снова прыгнул в седло Перегринус и, напрягая всю свою силу и ловкость в наездническом искусстве, сумел так укротить дикого жеребца, что тот, весь дрожа и храпя, признал наконец в Перегринусе своего господина.
Когда Перегринус спешился, Алина отвела в стойло укрощённое животное.
Бешеная скачка, наделавшая немало шума не только в комнате, а, может быть, и во всём доме, теперь прекратилась, и Перегринус уселся за стол, чтобы спокойно рассмотреть другие чудесные подарки. С удовольствием уплетал Перегринус марципановые конфеты, заставлял в то же время то ту, то другую марионетку показывать своё искусство, заглядывал в книжки с картинками, затем сделал смотр своему войску, которое нашёл обмундированным весьма целесообразно, и решил, что оно совершенно непобедимо по той причине, что ни у одного из солдат не было желудка, и наконец перешёл к охоте. С досадой обнаружил он тут, что налицо имелась только охота на зайцев да на лисиц, охоты же на оленей и на кабанов решительно недоставало. А ведь и эта охота должна была быть здесь, и никто не мог того лучше знать, чем Перегринус, который сам ведь всё закупил с чрезвычайной заботливостью.
Необходимо, однако, оградить благосклонного читателя от досадных недоразумений, в которые он может впасть, если автор будет без дальнейших объяснений продолжать свой рассказ, не подумав о том, что если ему-то хорошо известны все обстоятельства, связанные с рождественской ёлкой, о которой идёт речь, то они никак не известны любезному читателю, которому только хочется узнать о том, чего он ещё не знает.
Тот очень ошибётся, кто вообразит себе, что Перегринус Тис – маленький ребёнок, которому добрая его мать или какое-нибудь другое привязанное к нему существо женского пола, прозванное романтическим именем Алина, приготовило святочные подарки. Вовсе нет!
Господин Перегринус Тис достиг тридцати шести лет, то есть можно сказать, лучшего возраста жизни. Шесть лет назад о нём говорили как об очень красивом человеке, теперь же его называли статным мужчиной, и были правы; но и тогда и теперь Перегринуса всё-таки порицали за то, что он слишком в себе замыкается, что он не знает жизни и, очевидно, подвержен какой-то болезненной меланхолии. Отцы, у которых были дочери на выданье, полагали, что доброму Тису, чтобы излечиться от меланхолии, было бы всего лучше жениться; у него богатый выбор, и ему нечего бояться отказа. Мнение отцов, по крайней мере в последнем пункте, было вполне справедливо: господин Перегринус Тис, кроме того что, как сказано, был статным мужчиной, обладал и весьма приличным состоянием, оставленным ему его родителем, господином Балтазаром Тисом, очень зажиточным и видным купцом. Таким высокоодарённым мужчинам на невинный вопрос их: «Смею ли я надеяться, дорогая, что вы осчастливите меня вашей рукой?» – девушка, переступившая уже за мечтательный возраст любви, то есть достигшая двадцати трёх – двадцати четырёх лет, почти всегда отвечает, потупив взор и покраснев: «Поговорите с моими родителями, я во всём им повинуюсь, у меня нет собственной воли». А родители, молитвенно сложив руки, произносят: «На всё божья воля, мы ничего не имеем против, любезный сын!»