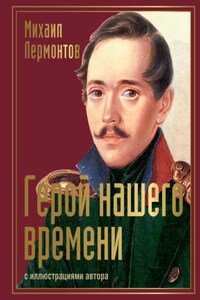Тёмной ночью февраля вышел я на Ошарскую площадь – вижу: из слухового окна какого-то дома высунулся пышный, лисий хвост огня и машет в воздухе, рябом от множества крупных снежинок, – они падали на землю нехотя, медленно.
Возбуждающе красив был огонь. Как будто в окно, под крышу дома, прыгнул из тепловатой, сырой тьмы красный зверь, изогнулся и грызёт что-то; был слышен сухой треск, так трещат на зубах птичьи кости.
Смотрел я на эти лисьи хитрости огня и думал: «Надо стучать в окна домов, будить людей, кричать – пожар!» Но кричать и двигаться не хотелось; я стоял, очарованно наблюдая быстрый рост пламени, а на коньке крыши уже мелькали петушиные перья, верхние ветки деревьев сада золотисто порозовели, и на площади стало светлее.
«Надо будить людей», – внушал я сам себе и – молча смотрел до поры, пока не заметил фигуру человека посреди площади; человек прижался к нелепой, чугунной колонне фонтана и, зрительно, был почти неотделим от неё. Я подошёл к нему. Это – Лукич, ночной сторож, кроткий старик.
– Ты что же? Свисти, буди людей!
Не отрывая глаз от огня, он сонным или пьяным голосом ответил:
– Сейчас…
Я знал, что он не пьёт, но видел в глазах его пьяную улыбку удовольствия, и меня не удивило, когда он, вполголоса, захлёбываясь словами, начал бормотать:
– Ты гляди, как хитрит, а? Ведь что делает, гляди-ко ты! Так и жрёт, так и жрёт, ну – сила! А малое время спустя назад маленький огонёчек высунулся около трубы, с долото, не больше, и начал долбить, и пошёл козырять. До чего это интересно, пожар, ах, господи…
Он сунул в рот себе свисток и, качаясь на ногах, огласил пустынную площадь режущим уши свистом, замахал кистью руки – торопливо затрещала трещотка. Но глаза его неотрывно смотрели вверх, – там, над крышей, кружились красные и белые снежинки, скоплялся шапкой чёрный, тяжёлый дым.
Лукич ворчал, усмехаясь в бороду:
– Ишь ты, разбойник… Ну, давай будить людей… Давай, что ли…
Мы бегали по площади, стучали в окна и двери, завывая:
– Пожа-ар!
Я чувствовал, что действую энергично, однако – неискренно, а Лукич, постучав в окно, отбегал на средину площади и, задрав голову вверх, кричал с явной радостью:
– Пожа-ар, э-ей!
…Велико очарование волшебной силы огня. Я много наблюдал, как самозабвенно поддаются люди красоте злой игры этой силы, и сам не свободен от влияния её.
Разжечь костёр – для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки так же ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку.
Пожар на Суетинском съезде в Нижнем; горят дома над узкой щелью оврага; овраг, разрезав глинистую гору, круто спускается из верхней части города в нижнюю, к Волге. Пожарная команда не могла, по условиям местности, подъехать близко к пожару, машины и бочки воды стоят на съезде, внизу, шланги протянуты вверх по срезу оврага, а сверху падают вниз головни, катятся огненные брёвна. Густая толпа зрителей стоит на другой стороне съезда, оттуда пожар прекрасно виден, но несколько десятков людей спустились вниз, где их сердито ругают пожарные и где падающие по откосу брёвна легко могут переломать им ноги.
Чтоб видеть, как огонь пожирает старое дерево ветхих домов, люди должны неудобно задирать головы вверх, на лица им сыплется пепел, кожу кусают и жалят искры. Это не смущает людей, они ухают, хохочут, орут, отбегая от бревна, которое катится под ноги им, ползут на четвереньках по крутому срезу противоположной пожару стороны оврага и снова, чёрными комьями, прыгают вниз. Эта игра особенно увлекает солидного человека, в щегольском пальто, в панаме на голове и в ярко начищенных ботинках. У него – круглое, холёное лицо, большие усы, в руке – палка с золотым набалдашником, он держит её за нижний конец, размахивает ею, как булавой, и, отбегая от бревна, падающего сверху, орёт басом:
– Ур-ра!
Зрители подзадоривают его криками, над его головою кружится, сверкая, золотой шарик палки, на полях панамы – чёрные пятна погасших угольков, чёрной змеёю развевается под его подбородком развязавшийся галстук. Но человек этот ничего не видит и, кажется, не слышит, у него цель храбреца мальчишки: подождать, пока горящее бревно подкатится вплоть к ногам людей, и отпрыгнуть от него последним. Это неизменно удаётся ему, он очень лёгок, несмотря на высокий рост и плотное тело.
Вот-вот бревно ударит его, но – ловкий прыжок назад, и опасность миновала:
– Ур-ра-а!
Он даже несколько раз прыгал вперёд, через бревно, и за это какие-то дамы, в толпе зрителей наверху, рукоплескали ему. Их много наверху, пёстро одетых женщин, некоторые стоят, раскрыв зонты, защищаясь от красного дождя искр.
Я подумал: наверное, этот человек влюблён и показывает даме своей ловкость и бесстрашие, – достоинства мужчины.
– Ур-рра-а! – кричит он. Панама его съехала на затылок, лицо побагровело, а вокруг шеи всё развевается чёрная лента галстука.
Потрясающе ухнув, заглушив криком жадный треск огня, пожарные вырвали баграми несколько брёвен сразу, и брёвна, дымясь, сверкая золотом углей, неуклюже подпрыгивая, покатились по откосу оврага. Чем ниже, тем быстрее становилось их тяжёлое движение, вот, взмахивая концами, переваливаясь одно через другое, они бьют по булыжнику мостовой.
– Ур-ра-а, – дико кричит человек в панаме и, взмахнув палкой, перепрыгивает через бревно, а конец другого лениво бьёт его по ногам, – человек, подняв руки, ныряет в землю, и тотчас же пылающий конец третьей, огромной головни тычется в бок ему, как голова огненной змеи.
Толпа зрителей гулко ахнула, трое пожарных быстро отдёрнули игривого человека за ноги, подняли и понесли его куда-то, а среди горящих брёвен, на булыжнике мостовой, осталась панама, пошевелилась, поёжилась и вдруг весело вспыхнула оранжевым огнём, вся сразу…
В 96 году в Нижнем Новгороде горел «Дом трудолюбия»; в нижнем этаже его вспыхнула пакля, огонь быстро накалил железную лестницу во второй этаж и застиг там старух-работниц. Все они, кажется более двадцати, были задушены смолистым дымом и сгорели.
Я застал уже конец пожара; провалилась крыша, в огромном, кирпичном ящике с железными Решётками на окнах буйно кипел и фыркал огонь, извергая густейший, жирный дым. Сквозь раскалённое железо решёток на окнах дым вырывался какими-то особенно тяжёлыми, чёрными клубками и, невысоко вздымаясь над пожарищем, садился на крыши, угарным туманом опускался в улицы.
Со мною рядом стоял человек дурной славы, домовладелец Капитон Сысоев, крепкий здоровяк, несмотря на его пятьдесят лет и распутную, пьяную жизнь.
На бритом, скуластом лице его глубоко в костлявых ямах спрятаны узкие, беспокойные глазки. Одет он неловко, небрежно, всё на нём как бы с чужих плеч, весь остро неприятен и, видимо, знает об этом, – он смотрит на людей вызывающе, с подчёркнутой наглостью.