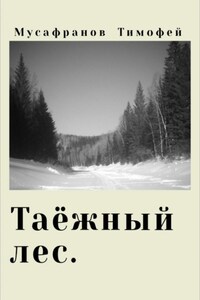– Григорий Александрович, ваша светлость… едем домой, – Прошка хватал барина за руки, пытаясь остановить его неуклонное движение в сторону ресторации. – Ведь проигрались в чистую. Рассердите старого графа… откажет Александр Львович в содержании…. Что делать будем?
– Батюшка… откажет …мне? – Бешкеков пьяно качнулся, наваливаясь плечом на слугу, – Никогда.
– Григорий Александрович…домой, Христа ради.
– Едем, Прохор, – молодой граф позволил погрузить себя в экипаж и проорал кучеру. – К мадмуазель Анжель, аллюр два креста!
– Отец родной, – взвыл холоп утробно, – не погуби!
– Не хочешь к Анжель, Прошка? Отчего?
– Барин, так денег ведь нету, проигрались вчистую.
– Что, совсем нет денег? Тогда давай к Рогозину, погоняй!
– Григорий Александрыч, Рогозин третьего дня как женился. Вы изволили гулять у него на свадьбе.
– Так я, Прошка, три дня как пьян?.. Скверно, брат, скверно.
– Да уж, чего хорошего, барин…
Прохор заботливо прикрыл хозяина полой плаща, радуясь, что пора бурной деятельности у него сменилась сонливостью. Он даже замурлыкал тихонечко, как будто убаюкивая неразумное дитя. Слуга на самом-то деле был немногим моложе своего хозяина, года на два-три. Недавние его вопли были призваны, чтобы умаслить буйного во хмелю Григория Александровича Бешкекова, единственного сына и наследника отставного штабс-капитана Преображенского полка – графа Александра Львовича Бешкекова.
– Прошка, – голос вроде бы заснувшего молодого графа был четок и полон суровости. – К ужину мне штоф водки, непременно.
– Какой ужин, батюшка? Уж светает.
Прохор прислушался к своему хозяину – ровное дыхание слетало с чуть приоткрытых губ, слегка очерченных отрастающими усами.
Хороши усы были у Гриши Бешкекова – черные и густые! А супротив белых волос на голове, казались необычайно интригующими. Сбрил! Отчихвостил за одну секунду – на спор. А уж, сбривши однажды, не пожелал отращивать вновь. Вот только во времена загулов, свершавшихся с неизбежным постоянством, граф брился редко; а эти злосчастные три дня, наверное, и умывался-то через раз. Потому как вид у него был помятый и несвежий.
Прошка вздохнул: не то беда, что голова пуста, а то беда – что упряма. Барин в своем затянувшимся веселье чуру не знает. А страдать ему – не в чем неповинному бедолаге. Не дале, как вчера, старый граф сказал тихо, но сурово:
– Прошка, шкуру спущу, ежели не привезешь Григория к вечеру.
Какое там! Уж и день целый прошел и новый занялся, а они все по друзьям куролесят. Прошка со злостью взглянул на кучера – широкоплечего, тучного Пафнутия – эвон, харя ненавистная, поди, и вздремнуть успел. А он три дня к ряду не спавши, не евши… Александр Львович с виду старик тихий, а норов у него крутой, военная косточка. Сказал «шкуру спустит», значит так и будет.… И сердит, сердит на сына графушка!.. Как бы чего похлеще не придумал, тогда содранная шкура даром Божьим покажется.
Размышления холопа прервались у ворот двухэтажного кирпичного особняка, не слишком роскошного, простых пропорций, безо всяких архитектурных излишеств.
Покойная графиня все пеняла мужу, дескать, дом похож на купеческую лавку, что на Дмитровке. На что супруг спокойно отвечал:
– Мы – не Пашковы, не Разумовские, чтобы во дворцах жить.
Прибеднялся граф, скромничал. До Пашковых с Разумовскими, конечно, далековато было, но состояньице Александр Львович имел вполне приличное. Не стеснялся запачкать своё имечко делами мануфактурными. Имел в Малороссии, откуда происходил родом, фабрики – суконную и экипажную, пополняя свое благосостояние трудами праведными. Не потому ли серчал на своего единственного сына Бешкеков, что не видел в нем способностей продолжить свое дело?
Прошка скорехонькой пташкой выпорхнул из экипажа, намереваясь взвалить хозяина на свои широкие плечи и волочить прямиком в его покои. Зря старался. Ворота чугунной ограды, окружающей дом, были заперты здоровущим замком, как будто в доме никого отродясь и не было.
– Открывай, анахфемы-ы-ы! – заорал Прошка, совсем озверев от препон, чинимых Судьбой.
– Не велено, – гукнули ему из темноты.
– Как не велено? Ты что, Ехфим? – Прохор узнал обладателя хмурого баса, – Григорий Александрович прибыли, собственной персоной.
– Граф велел персону везти в Охотничий домик на Воскресенку, покуда в себя не придет.
– Пусти, Ехфимка, хуже будет. Граф проспится, ужо тогда попляшешь.
– Это ко-о-о-гда он проспится, – разумно рассудил невидимый Ефим, – а Александр Львович – вот он, туточки! И прям сразу мне отпишет, ежели ослушаюсь его приказания.
– Ну, ты подумай, – взмолился Прошка, – куда мы поедем без отдыху, без вещей.
– Езжай, Проша. Там и отдохнете. А поутру раненько Манефа к вам отправится со всем подходящим имуществом.
– Ехфимушка-а-а, – Прошка прижал свое жалкое лицо к прутьям и заскулил. – Чаво я с ним там делать-то буду-у. Один! Он же меня угробит, когда поймет, что к чему-у-у…
– Твоя правда, парень. Осерчает Григорий Александрович дюже. А тут – ты! – Ефим загукал гулким хохотом. – Будет тебя заместо зайца гонять по лесу.
– Ы-ы-ы-й! Ы-ы-ы-й!
– Не вопи. На! – широкая грязная ладонь просунулась меж прутьев и ткнула мужику прямо в нос здоровенный кованый ключ.
Обрадованный Прохор метнулся к воротам.
– Не сюда, дурило, – осадил его Ефим, наконец, появляясь из тени причудливо постриженных тополей. – Манефа дала ключ от погреба. Опохмелишь барина, глядь, подобреет и не убьет сразу. Гы-гы-гы!
Проклиная свою судьбу, Прошка вскарабкался на облучок коляски и, саданув в бок Пафнутия, уже успевшего прихрапеть, разинувши рот большим мохнатым поддувалом, сказал печально:
– Погоняй, зараза. На Воскресенку.
Они тряслись по сонному городу неспешно. Пока клевавшего носом Проньку не посетила мысль. Да такая важная, что он, враз проснувшись, встряхнулся, как голосистый петух на зорьке, и зашипел Пафнутию на ухо свирепо:
– Ты чаво мочало тянешь, аспид? К теще на блины собрался? Погоняй, чертова кукла, шустрее.
– Чо ты, Пронька, всколыхнулси-и-и, – позевывал неторопко кучер. – Всё эт у тебе от гордыни. Понабрался с барином замашек-то. А чем тебе кичиться? Пуп ты на голом месте.
– Д-Д-дубина, – зашипел Прохор, заикаясь, – неуж, я из гордости? О нас с тобой забочусь. Не дай того Бог, проснется барин прямо счас?!
Пафнутий, замерев на мгновение, уцепился за кнут.
– Мать Пресвятая Богородица… – прошептал он растерянно. Видно, мысль, разбудившая Проньку, показалась кучеру еще ужасней, потому как через мгновение коляска мчалась, как на пожар.
– Вот так, друг милай, – Прохор тяжело вздохнул – не дай Бог оказаться меж двух разъяренных господ. – Пущай проснется уже на месте. Поди, назад вертать уж не прикажет.