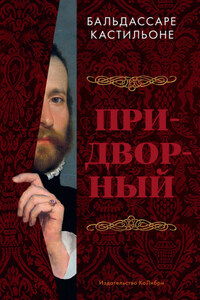Вступительное слово к российскому читателю
Перед вами книга, своеобразие которой в том, что она может быть прочитана под очень разным ракурсом. Ее можно прочесть просто как легкий, ненавязчивый, в полном смысле слова светский разговор о правилах хорошего тона; можно – как трогательное, хоть и приукрашенное, подернутое ностальгической дымкой, воспоминание о дворе герцогов Урбино, чей облик обессмертило искусство двух великих мастеров – Пьеро делла Франческа и Рафаэля. Книга большого друга Рафаэля, графа Бальдассаре Кастильоне (1478–1529) позволяет себя читать «не напрягаясь», на досуге. Оба главных антагониста шестнадцатого века, изнуривших Европу бесконечными войнами, император Карл V и французский король Франциск I, чрезвычайно любили эту книгу и, говорят, держали каждый у себя под подушкой, читая на ночь. «Книга о Придворном» была любимой книгой десяти поколений европейского дворянства, а в буржуазную эпоху заложила основы жизненной философии и эстетики дендизма, объединившей цвет английской культуры девятнадцатого века, от Байрона до Уайльда. Почему при такой популярности «Придворный» практически не проник в Россию до самого конца императорской эпохи – особый вопрос, над которым стоит подумать. (Об этом и о многих других интересных проблемах, связанных с этим сочинением, как и о судьбе ее автора, пойдет речь в большой сопроводительной статье к тексту.)
Наш перевод продиктован не только желанием заполнить давнюю лакуну, уплатить некий исторический и культурный долг. Книгу Кастильоне, со дня публикации которой скоро исполнится пятьсот лет (1528), настала пора прочесть внимательнее, пристальнее, осознав ее как плод зрелых, совсем не «досужих», а взволнованных и выстраданных размышлений человека, через судьбу которого прошли и тяжелые бури, и злодейства, и самые светлые и прекрасные порывы его эпохи. Углубляясь во внутренний мир автора, обнаруживая ходы его мысли, скрытые от поверхностного, беглого взгляда, мы обнаружим, что и для нашего времени имеет не отвлеченную, но живую практическую ценность его мысль о политике как об искусстве человеческих отношений как таковых. И мы, возможно, по-новому задумаемся о сложных, неочевидных, даже причудливых связях между политикой и искусством, политикой и поэзией, политикой… и любовью.
Досточтимому и славному господину дону Мигелу да Силва, епископу Визеу{1}
I
Когда синьор Гвидобальдо да Монтефельтро, герцог Урбинский{2}, покинул этот мир, я вместе с некоторыми другими рыцарями, ему служившими, остался на службе у герцога Франческо Мария делла Ровере{3}, его преемника в государственном правлении по праву наследства, и поскольку в душе моей еще живо было благоухание добродетелей герцога Гвидобальдо и то удовольствие, которое доставило мне в его дни дружеское общение со столь превосходными людьми, обретавшимися тогда при урбинском дворе, память о том побудила меня написать эти «Книги о Придворном»{4}, что я и сделал в течение немногих дней, намереваясь со временем исправить огрехи, порожденные стремлением поскорее уплатить долг памяти. Но долгие годы фортуна беспрерывно держала меня под гнетом столь тяжелых испытаний, что я вовсе не имел возможности довести книги до такого состояния, чтобы мой несовершенный вкус остался ими удовлетворен.
Когда же я находился в Испании и из Италии мне сообщили, что синьора Виттория Колонна, маркиза Пескары{5}, для которой я прежде сделал копию книги, нарушила данное мне обещание, отдав ее значительную часть в переписку, – [то] я не мог не почувствовать некоторое беспокойство, опасаясь многих неприятностей, которые в подобных случаях могут произойти, и тем не менее, веря, что у этой дамы, чьи добродетели я всегда чтил как нечто божественное, достанет разума и осмотрительности на то, чтобы я не понес какого-либо ущерба, подчинившись ее пожеланиям. Наконец, я узнал, что упомянутая часть книги ходит в Неаполе по рукам многих, и, поскольку люди всегда жадны до новинок, подумал, что кто-нибудь попытается ее напечатать. Встревоженный такой опасностью, я решился наскоро поправить в книге то немногое, что позволяло время, с намерением ее скорее опубликовать, считая меньшим злом увидеть ее мало исправленной собственной рукой, нежели сплошь истерзанной чужими.
Итак, чтобы исполнить свое намерение, я принялся ее перечитывать; и на первом же развороте, как только прочел заголовок, меня охватила немалая печаль, которая становилась все сильнее, чем дальше я продвигался. Ибо я вспоминал, что большинство собеседников, представленных мной, уже умерли: кроме лиц, упомянутых в предисловии к последней части, умер и сам мессер{6} Альфонсо Ариосто, которому адресована эта книга, обходительный и скромный молодой человек чудеснейшего нрава, способный ко всему, что подобает делать придворному{7}. Умер и герцог Джулиано деи Медичи, доброта и благородная любезность которого заслуживали, чтобы мир наслаждался ими более долгое время{8}. Мессер Бернардо{9}, кардинал Святой Марии в Портике{10}, за остроту и приятную живость ума любимый всеми, кто его знал, – и тот умер. Умер синьор Оттавиано Фрегозо{11}, человек по нашему времени редчайший: великодушный, благочестивый, исполненный доброты, разума, осмотрительности, учтивости, истинный друг чести и добродетели, столь достойный похвал, что хвалить его вынуждены были даже его враги; а тех несчастий, которые он вынес с величайшей стойкостью, было вполне достаточно, дабы увериться, что фортуна как прежде была, так и ныне остается враждебна добродетели. Умерли и многие другие из упомянутых в книге, кому, казалось, природа обещала весьма долгий век. Но о чем невозможно и сказать без слез, это – что умерла сама синьора герцогиня{12}; и если дух во мне сокрушается от потери стольких моих друзей и государей, оставивших меня в этой жизни, словно в пустыне, полной невзгод, то насколько горше для него скорбь от кончины синьоры герцогини, нежели кого-либо другого, ибо она превосходила всех остальных, и я привязан к ней был больше, чем к кому бы то ни было еще.
Итак, дабы не опоздать с уплатой долга, которым я связан] перед памятью столь превосходной государыни и других, кого уже нет в живых, а кроме того, понуждаемый опасностью, нависшей над книгой, я дал ее напечатать и распространить в таком виде, как позволила мне срочность дела. Поскольку же вам ни о синьоре герцогине, ни о других, ныне покойных, кроме герцога Джулиано и кардинала Святой Марии в Портике, не довелось составить представление при их жизни, то, чтобы вы получили его, насколько в моих силах, хотя бы после их смерти, я посылаю вам эту книгу, словно живописный портрет урбинского двора, выполненный не рукой Рафаэля или Микеланджело, но художника неважного, умеющего набросать лишь общие контуры, не расцвечивая правду приятными красками и не изображая иллюзорно с помощью искусства перспективы то, чего нет. И, как ни старался я показать в беседах подлинные качества и манеры упомянутых лиц, признаю, что не сумел ни выразить, ни даже обозначить добродетели синьоры герцогини; ибо не только слога моего недостаточно, чтобы выразить их, но и моих умственных способностей, чтобы их вообразить. И пусть меня порицают в этом или в еще чем-то достойном упрека (ибо я хорошо сознаю, что огрехов в книге немало), – я, во всяком случае, не стану уклоняться от истины ради красоты слога.