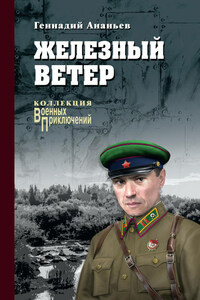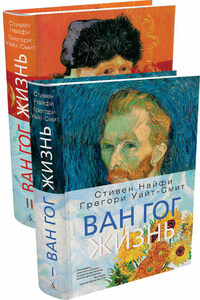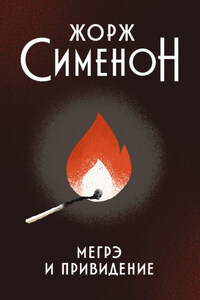Они боролись долго. Очень долго. И совсем не оттого, что были равными по силе. Наоборот, Константин Гончаров мог одним пальцем швырнуть своего соперника Северина Паничкина на пыльную, пожухлую от безводья и безжалостной жары траву, но не делал этого, давая Северину потешиться. Когда же надоело возиться со старательно сопевшим мешком, обхватил взмокшую холеность обручно и положил, словно дитятю, на спину.
– Вот и ладно будет, – улыбаясь подытожил борьбу Константин и непроизвольно поежился от ненавистной вспышки в глазах Северина. Словно ожегся о пылающие угли.
«Ишь ты. Не любо, стало быть», – всего-то и подумал Константин. Улыбку, однако, погасил.
Пустяшная мысль. Верхоглядная. Прикинуть бы, что за вдруг вспыхнувшей злобностью скрывается, ладней было бы. Только не умел Константин Гончаров относиться к людям с подозрительностью. Рос в честной семье, с честными людьми работал, у кого испокон веку врагов не бывало. Вот и был чист душой, неопаслив, словно голубь непуганый. А поразмысли Константин, отчего так злобно зыркнул Северин (и враз подавил себя, улыбнулся даже, скрыть, стало быть, хотел ненависть свою), да насторожись, другим путем пошла бы его жизнь. Совсем другим…
Только не намотал себе на ус Константин ничего, не упрятал доверчивости своей в себе, так и продолжал дружить с Северином. Открыто. Честно. Да и как не дружить, если койки их рядом, а в столовой за одним столом сидят, хлебушек пополам делят?
Свела их судьба на краешке Каракумов в пограничном учебном дивизионе всего неделю назад. Оба они – рядовые бойцы-кавалеристы пока еще не в зеленых фуражках, а в васнецовских былинных шлемах, окрещенных в Гражданскую войну буденовками, у каждого по карабину, по шашке в отполированных о красноармейские галифе и конские бока до костяной светлости ножнах, из которых не особенно-то разрешают им пока вытаскивать сами клинки, чтоб беды какой ненароком не натворили. Оружие, оно и есть оружие. В руках неумехи не грозное оно, а самому себе опасное. И еще был у них конь. Один на двоих. Караковый ахалтекинец. Не чистых, правда, кровей, но все одно – красавец: тонконог, шея лебедем, упруг в шаге, а под всадником нетерпелив. Кличка Буйный вполне к нему подходила.
Любой бывалый кавалерист пожал бы плечами, увидев их вдвоем у одного коня. Разные уж слишком они, эти молодые пограничники. Константин – приземистый, вроде бы и в плечах не косая сажень, а силы недюжинной. Хлебнул лиха в многодетной семье без отца-кормильца, всякого хлебопашеского труда полной мерой отмерила ему жизнь, а несколько лет перед призывом молотобоил в колхозной кузне, оттого и руки железно-хваткие. Северин же, наоборот, – высок и дороден, но что тебе вожжа сыромятная, размокшая под дождем. Никак, выходило, для одного коня не подходящие они, но коль скоро командир взвода так определил, рассуждать не должно. Это на вечеринке, семечки лузгая, правоту свою доказывать сподручно, а здесь – армия. Пограничные войска здесь, железная, стало быть, здесь дисциплина. Слово командира – закон. Ему, командиру, видней, у него, должно быть, свой по этому вопросу резон имеется: потянет, мол, деревенский городского на постромках.
Так оно и выходить стало. Не то, чтобы взводный, отделенный даже не подходил к ним, когда седлали коней, либо обихаживали их – все знал, все умел Константин Гончаров, всему обучал своего напарника, полного неумеху. Терпелив был Константин, хотя и удивлялся, как можно не знать пустяшные вещи. Но ни разу не подумал, что человек может быть артистом: знать и уметь, но ловко скрывать знания и умение. Для чего? Возможно, чтобы привязать к себе сослуживца, не зря же говорят: не та мать, которая родила ребенка, а та, которая выкормила и воспитала. А Северину Паничкину очень нужно было иметь возможно больше товарищей, а уж куда верней товарищ, если он станет считать себя учителем твоим.
Туповато «обретал навык» Паничкин, понукая тем самым Константина учить, но день за днем все же поддавался его настойчивости, чем постепенно вызывал у Гончарова чувство удовлетворенности и даже гордости. А тут еще отделенный похвалил раз да другой, взводный на политчасе отметил, вот и вовсе доволен молодой боец: учит еще старательней своего напарника.
Вот наконец первая езда в манеже. Стоит строй, ожидая команды, для многих волнительной. Даже у Константина не совсем обычное состояние, праздничность на душе. Хотя что ему конь? Он и в седле, и без седла столько на лошадях прорысил, да проскакал по пыльной сельской улице, по проселкам, по полям, а смотри ты – не спокоен. Торжественность момента сказывается: не лошадь держит он за уздечку, а коня боевого за повод у трензелей. Может, на этом вот коне ему придется в атаку на басмачей пластать. Хоть и поубавилось их, басмачей безжалостных, как взводный сказывал, но нет-нет да и вылезают гюрзой смертоносной из-за кордона.
– Сади-и-и-ись!
Мячиком упругим взлетел в седло Гончаров, и в тот самый момент, когда подался он чуть-чуть вперед, чтобы, как отделенный учил, похлопать дружелюбно коня по шее, Буйный вскинулся на свечку. Вот так, сразу, конь экзаменовал нового своего хозяина. Только не сробел Гончаров, не растерялся: жестко передернул повод, вдавил шпоры в бока, а сам спокойно, даже ласково предупредил.
– Побалуй мне еще…
Потанцевал пружинно Буйный на месте, мотнул головой, вырывая повод, и тут же угомонился: почувствовал сильного и волевого всадника, принял его и подчинился ему. И к самому нужному моменту, ибо потянулись справа по одному молодые кавалеристы за отделенным, а кто со своим конем не успел поладить, нервничал и краснел под звонкий хохот вторых номеров, вольно стоявших у входа в манеж.
Многие из сменщиков к коням даже не подходили всю жизнь, у них еще смешней все будет получаться, юзом все пойдет на первых порах, но это через полчаса произойдет, не раньше, а теперь воля раз есть, почему не позубоскалить? Нет, не уйти никуда от натуры человеческой: медом не корми, только дай над другим потешиться.
Заняли с горем пополам аники-воины свои расчетные места, и выровнялось движение, зашагали кони по привычному им кругу, и так все ладно бы и шло, все спокойно, если бы не крикнул отделенный зычно:
– Брось стремя! Манежной рысью ма-а-рш!
Тут уж раздолье пришло его командирскому голосу: то спину велит бойцу не горбить, то локти не раскрыливать, то шенкеля к боку лошадиному плотней прижимать. Только прижимай не прижимай – толку чуть, если седло словно маслом смазано, и катает по нему то вкось, то вкривь. Самый раз в гриву бы вцепиться, но попробуй только протянуть к гриве руку, тут же придира-отделенный устыдит – зорок несносно, не в меру зорок. Случись подобное вне армии, проучили бы его за безжалостность.