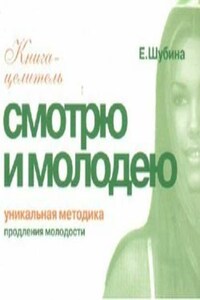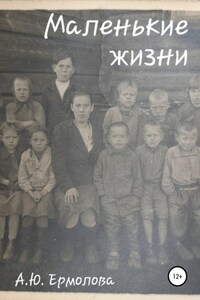Есть проблемы-капризы, которые, возникнув перед нами, тотчас же притягивают к себе нашу мысль и держат ее плотно, не отпуская. Они похожи на выпавшее из своей ячейки и почему-то совершенно необходимое нам именно в данную минуту имя, которое мы никак не можем заставить себя не припоминать. Бывают между этими проблемами и довольно трудные, но это ни на минуту не колеблет нашей уверенности в том, что кто-то раньше уже решил их, и когда мы наконец найдем разгадку, то самая задача сразу же предстанет перед нами во всей своей досадной ничтожности и унизительной очевидности, точно загадочная тень Наполеона на спичечной коробке.
Но есть и другие проблемы – отравы, и тех никто никогда еще не решил. Они тоже притягивают к себе нашу мысль, только далеко не сразу. Мы можем вначале не различить их даже за приманчивостью убора и в чаду восторга. Но, в конце концов, яд, испаряясь, все-таки окажет свое действие, и проблема станет неизбежной. Тогда мы принимаемся за ее решение с веселой и гордой уверенностью, потому что поэт, который ее задал, околдовал нас своей мнимой близостью. О, первое время мы не скучаем! Возникает теория, другая, третья; символ вытесняется символом, ответ смеется над ответом, нет уступает да, но чаще, наоборот, еще бы уступает вот как?
Порою мысль засыпает сытая, самодовольно-успокоенная, и просыпается в лихорадке. По временам мы начинаем сомневаться даже в наличности проблемы. В самом деле, а что если это только дурной сон?
Гамлет – ядовитейшая из поэтических проблем – пережил не один уже век разработки, побывал и на этапах отчаяния, и не у одного Гете…[1]
Серию критиков Гамлета открыл Полоний. Он первый считал себя обладателем гамлетовской тайны. Хотя Гамлет прокалывает его случайно, но зато Шекспир вполне сознательно сажает на булавку первого, кто в дерзости своей вообразил, что он языком рынка сумеет высказать элевсинскую тайну[2] его близнеца.
Как ни печальна была судьба первого шекспиролога, но пророчество никого не испугало, и Гамлет благополучно будет дурачить нас даже сегодня.
Тайна Гамлета представляется мне иногда каким-то сказочным морским чудовищем. В сущности, добыча не такая уж неблагодарная не только для охотников, но даже для зрителей охоты: один спорт чего стоит… но и помимо этого. Довольно самого скромного огонька в актере, – чтобы толпа ротозеев на берегу увидела в воде черный силуэт добычи и принялась рукоплескать.
Гамлет идет и на червяка анализа, хотя не раз уже благополучно его проглатывал. Попадался он и в сети слов, и довольно часто даже, так что если его теперь выловят, то не иначе, как с остатками этих трофеев. Впрочем, не ручайтесь, чтобы тайна Гамлета, сверкнув нам и воочию своей загадочной серебристостью, не оказалась на берегу лишь стогом никуда не годной и даже зловонной морской травы.
Желанье говорить о Гамлете и даже не без убедительного жара в наши дни, благодаря превосходным пособиям, легко исполнимо. Труднее поручиться, что спасешь при этом свою лодку, увильнув и от невольного плагиата банальной Скиллы и от сомнительного парадокса Харибды. Только как же, с другой стороны, и не говорить, если человек говорит, чтобы думать, а не думать о Гамлете, для меня по крайней мере, иногда значило бы отказаться и от мыслей об искусстве, т. е. от жизни.
Я не знаю, была ли когда-нибудь трагедия столь близкая человеку, как Гамлет – Шекспиру, только близкая не в смысле самооценки и автобиографическом… нет, а как-то совсем по-другому близкая…
Смерть отца, любовные разочарования, маленький Гамлет, назойливость накопившихся в уме сатир и карикатур. Джордано Бруно[3] в Лондоне, убийство Дарнлея,[4] судьба Роберта Эссекса[5]… Мимо, мимо всего этого[6]… Шекспир и Гамлет, – где причина и следствие?.. В сущности, почем мы знаем, да и не все ли нам равно?.. Две тысячи лет тому назад звезда вела мудрецов и показала им ясли бога[7] – так они думали, теперь мудрецы ведут звезду за своей трубой и приводят золотую звезду к могиле этого же бога, – и так они думают… Для меня Гамлет и Шекспир близки друг другу, как murionoot обладатели мириады душ, среди которых теряется их собственная. Для Гамлета, после холодной и лунной ночи в Эльсинорском саду, жизнь не может уже быть ни действием, ни наслаждением.[8] Дорогая непосредственность – этот корсаж Офелии, который, кажется, так легко отделить рукой от ее груди, – стал для него только призраком. Нельзя оправдать оба мира и жить двумя мирами зараз. Если тот – лунный мир – существует, то другой – солнечный, все эти Озрики и Полонии – лишь дьявольский обман, и годится разве на то, чтобы его вышучивать и с ним играть… Но если тень старого Гамлета создана мыслью, то разве может реально существующее вызывать что-нибудь, кроме злобы и презрения, раз в его пределах не стало места для самого благородного и прекрасного из божьих созданий?
Разнообразие Гамлетов, я бы хотел сказать даже Гамлета, поразит нас особенно, если из безобидного мира кабинетных анализов мы перейдем к сценическим его толкованиям – в область ярких и ответственных синтезов, откуда нас не убеждают, а с нами играют.
Вот актер в роли датского принца.
Едва успел уйти король из залы представления, как он начинает хлопать в ладоши и безумно хохочет… И зритель в восторге. Но вот тот же актер через неделю, молча проводив злыми глазами красные факелы Клавдия, садится на покинутое им кресло и тотчас же ровным бесстрастным голосом начинает:
И мы опять-таки захвачены. Вот Гамлет, подавленный ужасом призрака и точно чувствуя, что с этой минуты он навсегда отрезан от всего прошлого, еле влачится за манящей его тенью… А глядите – другой: ведь он же очарован; глядите, он идет, как на первое свиданье, сам он даже стал воздушен, точно призрак: так легки шаги его и музыкальны движения… Опять-таки и правы, и прекрасны оба, и я хочу любоваться Гамлетом во всей прихотливости шекспировского замысла, где в беспокойной смене проявлений могли узнавать свою мечту и Мочалов, и Барнай, и Сальвини.[9]
Но сравнения и сличения Гамлетов решительно ничего не придали бы моему пониманию Гамлета. А лично я, какого бы я Гамлета ни смотрел, всегда рисую себе совсем другого актера, вероятно, впрочем, невозможного ни на какой сцене. О, это не был бы тот ярко индивидуальный Гамлет, который, может быть, даже создан актерами. По сцене мой Гамлет двигался бы точно ощупью… Я себе так его представляю… он не играет… он вибрирует… он даже сам не знает, что и как он скажет… он вдумывается в свою роль, пока ее говорит; напротив, все окружающие должны быть ярки, жизненны и чтобы он двигался среди этих людей, как лунатик, небрежно роняя слова, но прислушиваясь к голосам, звучащим для него одного и где-то там, за теми, которые ему отвечают.