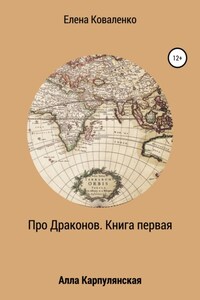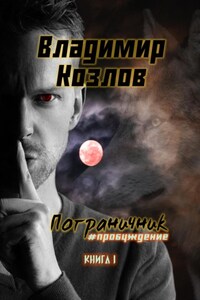в котором майор подглядывает, а потом пишет в блокнот
Он не был похож на учителя физкультуры. Да и вообще на учителя.
Учителя бывают двух видов. Первые – неудачники, случайные люди, они не знают, что здесь делают, и отрабатывают. Просто пытаются делать, как понимают, а понимают они – никак, и от этого еще больше чувствуют себя неудачниками.
Вторые – молодые энтузиасты. В них горит огонь юности, они пришли свернуть горы… порой огонь перегорает, и человек превращается в неудачника, но иногда отсветы этого огня еще долго пляшут в лицах учеников, даже когда самого вечно молодого учителя, уже седого или лысого, закрывают в гробу. Бывает и так.
Николай Федотович не был похож ни на неудачника, ни, тем более – на энтузиаста. При виде него почему-то вспоминалось, что в городе есть улица Энтузиастов, и ведет она на кладбище…
На уроке почти тишина. Стучит мяч, слышен топот десятков ног, дыхание… и все же тишина. Ни азартных выкриков, ни смеха, ни подначиваний друг друга.
Майор Филиппов ждал конца урока. Стоял в коридоре и подглядывал в щель. Ему хотелось посмотреть на урок, никого не беспокоя. Он мог просто зайти и сесть в уголке, но посторонний всегда отвлекает, а Филиппов хотел увидеть урок. Составить мнение об учителе не по протоколам, а лично. По его делам.
Сам Николай Федотович почти не появлялся в поле зрения. Похоже было, что он просто выдал детям мячик, велел играть в баскетбол, а сам занялся чем-то своим. Когда сам Филиппов был школьником, он такие уроки любил больше всего – не надо делать глупые приседания, ходить по залу строем, можно просто играть в свое удовольствие. Но здесь не было удовольствия, дети вяло двигались, вяло перекидывали мяч, вяло бросали в корзину и не расстраивались промахам – не играли, а словно изображали игру. И молчали.
Филиппов хмурился и думал, что хорошо было бы задержать этого Николая Федотовича. Просто так, до выяснения. Не мог он быть ни в чем не виноватым. Даже жаль было, что нынче нельзя арестовать человека, руководствуясь пролетарским чутьем, как в старых книгах. Здесь, в школе сами собой вспомнились романтические книги, читанные в детстве. Про борьбу за справедливость, про горячие сердца и холодный разум, про маузеры и романтику… Книги, которые вели Филиппова до сих пор, хотя давно уже стало ясно – нет никакой романтики, а есть только грязь, труд и снова грязь. И куча бумаги. Отчеты, отчеты и еще раз отчеты. По каждому движению надо писать отчет.
Тут его размышления были грубо прерваны – дверь резко открылась и ударила майора в лоб.
– Ох, извините, – Николай Федотович смотрел в глаза и улыбался, – Не знал, что за дверью кто-то есть.
Филиппову показалось, что он лжет – отлично он знал, и специально подобрался тихо и открыл резко. И глаза у этого учителя были какие-то неприятные – мутные и глубокие, непонятного цвета. То ли серые, то ли зеленые… Как ориентировку про такие писать?
– Ничего, я сам виноват, – ответил он и достал удостоверение, – Мы можем побеседовать?
Николай Федотович улыбнулся еще шире.
– Разумеется, урок как раз заканчивается.
И тут прозвенел звонок. Дети словно очнулись, начали галдеть, побежали в раздевалку. Торопливо, и как показалось Филиппову – с облегчением.
В кабинете Николая Федотовича было тесно, стоял небольшой стол, почти чистый, на полке несколько дипломов и две каких-то награды. В углу – огромная спортивная сумка, набитая каким-то инвентарем. За столом – расшатанный стул, на который сел хозяин кабинета, перед – узкая скамья. Майор немного постоял, чувствуя себя глупо от того, что возвышается, как каланча, и сел. Стало еще неудобнее, но не подскакивать же теперь.
– Я хотел задать вам несколько вопросов… – начал говорить Филиппов, но Николай Федотович перебил.
– Ужасная история! Поистине ужасная! – и снова майору показалось, что над ним глумятся, – Но ведь вы найдете маньяка? Я верю вам!
Николай Федотович снова глянул прямо в глаза Филиппова, и тот вдруг удивился, насколько тут душно. В ушах зазвенело, голова закружилась. А Николай Федотович продолжил говорить, теперь тише, внушительнее.
– Я верю вам, а вы верьте мне. Вы же верите мне, правда?
В ушах Филиппова шумело, он почти не слышал слов, но машинально кивнул.
– Я не имею отношения к гибели этих девочек. Так и запомните, – сказал Николай Федотович, – А в протокол допроса запишите что-нибудь на свой вкус.
Майор достал блокнот с потрепанной обложкой, на ощупь, не отрывая взгляда от глаз собеседника, открыл его.
– Нет-нет, – сказал Николай Федотович, – Пролистайте дальше, чистый лист дальше.
Майор глянул в блокнот, перелистнул еще две страницы. Здесь он делал пометки для себя, чтобы не забыть. На память Филиппов не жаловался, и обычно помнил все и без блокнота, но ему было удобнее думать, помечая ключевые точки на бумаге.
На открытой странице было записано "Василиса Кошкина, прозвище Кошка Васька", и еще "поговорить с физруком. Н. Ф."
Остальная часть была пустой, и Филиппов начал быстро писать.
Николай Федотович с улыбкой смотрел на него, потом вдруг резко хлопнул в ладоши и встал.
Филиппов тоже встал, потряс головой. В глазах его прояснилось, но ноги подкашивались.
– Душно тут у вас, – сказал он.
– Дети, – ответил Николай Федотович, – Физические упражнения, пот. А вентиляция, сами видите.
Филиппов машинально отметил, что тот говорит как-то рублено, отрывисто… но что это могло значить, не мог понять, в голове гудело. Он чувствовал, что произошло что-то неправильное, но что?
– Приятно было поговорить, – сказал он почему-то, и пошел прочь.
Пришел в себя он только в своей машине. Достал мятый лист с записью разговора – не протоколом, просто своими пометками. Повертел в руках, попытался разобрать собственные каракули, и решил внимательнее вспоминать уже в кабинете.
А сейчас некогда было задерживаться. И так потеряна куча времени. Ни черта он не знает, этот физрук. Не слышал, не в курсе, не видел.
А между тем пропала еще одна девочка.
Василиса Кошкина, с глупым прозвищем Кошка Васька и совершенно дурацким сетевым псевдонимом Киска-Мяу.