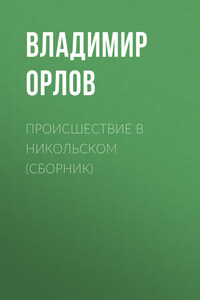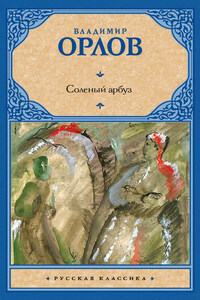Ox и скучно по утрам в Никольском. Ей-богу. Ну что за наказание такое – все в сотый, да и не в сотый даже, а в стотысячный раз. Словно слушаешь петую-перепетую песню и каждая буква в той песне тебе знакома, каждый звук, каждая интонация старательного певца, даже все его придыхания выучены наизусть. Вот проревел он в волнении: «Туча смешала землю с небом», – стало быть, дальше уж, конечно, с угрозой пропоет насчет серого неба и белого снега, а ты кричи, уши затыкай чем под руку попадется, но от этого гремящего серого неба, от неумолимого песенного порядка никуда не денешься, да и куда деваться? Вот хлопнула калитка у Монаховых, – значит, сейчас услышишь, как продавец гастрономического отдела пристанционного магазина пройдет шагов пять, остановится и крикнет жене трезвым металлическим своим баритоном: «Колбасы граммов четыреста купи, докторской, и масла…» – и точно, крикнул, и Монахова ответила: «Ладно», будто микрофон у рта держала, и разошлись супруги, довольные, успокоенные, подтвердившие еще раз честному народу, что не жулики они, не уголовные элементы, общества не разоряют, а покупают снедь в поселковом гастрономе. А за Монаховым по дымящейся, прожаренной уже пыли Дементьевы прошагают, отец и сыновья, молчаливые, несущие себя с достоинством получивших звание, выбритые до лаковой синевы с помощью безопасной бритвы и пенящегося крема «Флорена». Словно готовые еще раз фотографу столичной газеты у ворот завода швейных машин позировать для снимка «А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло…». Прошли. Вере кивнули. Валяйте, валяйте, спешите, ударники! А за ними, а за ними шалопай Корзухин пронесется, камнем засадит в чей-нибудь священный огород, так, безобидно, ради шутки, или собаку мирную соседскую подразнит диким голосом, а той уж будет огорчительно слышать этот дикий, издевательский голос, потому что и так, без Корзухина, жарко. «Ну ладно, проваливай, чего руки тянешь! – скажет Вера Корзухину грозно. – Дурной! Контуженый, что ли? Как только таких токарями держат! В армию хоть бы взяли…» Пробежал Корзухин, пробежал никольский битл, концы красной рубахи узлом связавший на голом втянутом животе; в распаренный, голову дерущий запахом краски автобус влезет, как всегда, первый, да еще и место, кому надо, займет. И повалит весь поселок Никольский на работу, на службу, на рынок, в магазины, в больницы, в районные конторы, мастерить швейные машинки и мотоколяски для инвалидов, исписывать бумаги красными и синими чернилами, торговать ранними огурцами из ухоженных парников, да мало ли занятий вытягивает по утрам деятельных людей из Никольского, пустошат поселок, заставляют никольских локтями работать в автобусной очереди, кряхтеть в резиновой машине, а потом, через три километра, спешить в электричку, а уж электрички, электрички по Курской, по тесной и веселой железной дороге, развезут, растрясут никольских кого куда – кого в Москву, кого в районную столицу, кого в Серпухов, кого на сумасшедшую станцию Столбовую, а кого и в пряничную Тулу.
Вот и повалил поселок Никольский.
А ей, Вере, спешить некуда, день отгульный, сиди на крыльце, подставляй смуглое уже свое лицо солнцу да поглядывай на утреннее никольское шествие.
Идут, идут, кто торопится, а кто нет, кто с черным интеллигентным и деловым портфелем, а кто с дерюжными мешками, с сумой переметной, старики в штопаных рубахах и пиджаках с заплатами, по давней никольской традиции привыкшие надевать на работу и в баню что похуже, а то попортишь или сопрут еще. Молодые, напротив, в отглаженном да в модном, длинные и здоровые, переросшие на голову приземистых своих родителей, не знавшие бомбежек и щей из лебеды, щеголи, по мнению своих мамаш, добро беречь не научившиеся. Идут, идут, а их дом, Навашиных, самый что ни на есть обыкновенный никольский дом, не раздражающий соседей никакими особыми достоинствами, самое что ни на есть заурядное подмосковное жилище, неискусный гибрид избы и дачи, стоит на главной поселковой улице, и, стало быть, утреннее шествие тянется перед Вериными глазами, и люди, шагающие к автобусу, успевают поглядеть на нее. А так как она своя, никольская, не дачница, выложившая сто пятьдесят целковых за лето, и вот сидит на крыльце с книжкой в руках, и ничего не делает, и никуда не спешит, это, естественно, моментально вызывает чувство досады или непонимания.
– Во, расселась, коленки выставила…
– Вера Алексеевна, не желаете двинуть с нами на Силикатную?
Это Астанин, шофер, возит цемент с Силикатной.
– Как же, – говорит Вера певуче и закрытой книжкой отгоняет муху, – потом пыль из меня выбивать веником, да?
Уж так ответила, по привычке, чтобы отстал и шел дальше, могла бы и поостроумнее что-либо сообразить, но лень попридержала язык, да и скучно.
И снова:
– Эй, Верка, ноги-то сгорят…
– Она подол обрезала напрочь…
– Привет, Верк! Гни свою линию, от этих-то уши отводи, а то вянуть начнут. Марья Ивановна с радостью паранджу бы надела…
– Пошли с нами. На Гривне нынче жакеты будут!
– И занятие-то себе нашла – не бей лежачего, да еще и сегодня загорает…
– Слабенькая! Ветер дунет – рассыплется!
– Валяйте, валяйте… Ну, еще чего?
Впрочем, слова летели в Верину сторону случайные и необидные, в Веру они не вцеплялись, а рассыпались в воздухе, и от них не надо было отмахиваться, как от обнаглевших июньских мух, не словленных еще липучей бумагой. Мужики и парни отпускали на ходу реплики скорее доброжелательные, им самим приятно было полюбезничать с навашинской девицей, такой смазливой и фигуристой не по летам. А женщины, даже если бы и пожелали Веру уязвить, хотя бы для того, чтобы досадить мужьям, сделать это все равно бы не решились, потому что шла в Никольском о Вере слава как о девке горластой и язвительной, к старшим не имеющей почтения, и связываться с ней – только давать повод ославить, осрамить себя на весь поселок. Да и чего цепляться к ней? Девка как девка, красивая, работящая, сегодня сидит – так завтра со всеми будет нестись к автобусу, а что коленки выставляет, так и их дочки нынче не прячут колен. Срамота, конечно, но…
Прошли.
Ну вот еще последние суматошные пробежали.
Вера вздохнула.
Скучно. Ох и скучно же…
И утро все тянется, жаркое, нестерпимое никольское утро.
И ничего в это утро в поселке не произойдет интересного, не может произойти, да и не происходило никогда. Вот днем или вечером в Никольском происшествия еще могут случаться. И случались же! Случались! В послеобеденные часы или еще лучше – в вечерние входит в жизнь поселка стихия. В новинку кое-что бывает, пусть не каждый день, но бывает, пусть раз в двадцать дней, но бывает все же, вечером в Никольском есть на что поглядеть, есть что послушать. На худой конец включишь телевизор, может, станут разучивать «хоппель-поппель» или начнут многосерийный фильм.