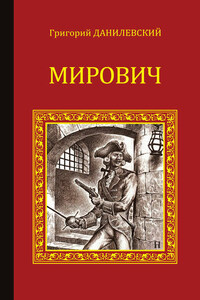Во время мятежа в Индии, незадолго до осады Дели, в Пешаваре, на границе Индии, стоял туземный иррегулярный полк. Этот полк был охвачен тем, что Джон Лауренс называл в то время «господствующей манией», и охотно присоединился бы к мятежникам, если бы это было возможно. Но случая тому не представилось, потому что, когда они спустились к югу, им преградили путь остатки английского корпуса в горах Афганистана, и тут вновь завоёванные племена окружили их, как волки окружают быка. За ними охотились ради их оружия и амуниции и гоняли их с горы на гору, из долины в долину, по высохшим руслам рек, через склоны утёсов – до тех пор, пока они не исчезли, как исчезает вода в песке; так погиб весь этот взбунтовавшийся, оставшийся без офицеров полк. Единственным следом его существования остался дошедший до нашего времени поимённый список его чинов, написанный чётким, красивым почерком и подписанный офицером, который сам назвал себя «адъютантом бывшего иррегулярного кавалерийского полка». Бумага эта пожелтела и запылилась с годами, но на обратной стороне листа ещё можно различить заметку карандашом, сделанную Джоном Лауренсом (одним из деятелей по усмирению мятежа): «Позаботиться, чтобы два туземных офицера, оставшихся верными, не были лишены своего звания. Дж. Л.». Из шестисот пятидесяти сабель только две остались верными, и Джон Лауренс среди всех страшных тревог этих первых месяцев мятежа нашёл время подумать об их заслугах.
Это произошло более тридцати лет тому назад, и жители пограничных афганских земель, помогавшие уничтожить этот полк, успели уже состариться. Иногда какой-нибудь седобородый туземец начинает рассказывать о своём участии в этой резне.
– Они пришли, – так будет он повествовать, – с той стороны границы, очень довольные собой, и уговаривали нас восстать и убить англичан, а потом пойти на помощь Дели. Но мы, которые только что были завоёваны этими самыми англичанами, знаем, что это слишком рискованно, и что правительство легко справится с этими собаками долин. Мы поговорили, как следует, с индостанским полком и задержали их до тех пор, пока не подошли красные куртки, очень разгорячённые и рассерженные. Тогда полк этот побежал вперёд, в горы, а мы следовали за ним с боков, укрываясь в горах, пока не убедились, что они заблудились. Тогда мы спустились к ним, потому что нам нужны были их куртки и уздечки и их ружья и сапоги – особенно их сапоги. Это было большое и очень медленное избиение.
Тут старик потрёт свой нос, встряхнёт длинными, курчавыми волосами, оближет усатые губы и оскалит рот, обнажая жёлтые корешки зубов.
– Да, мы убивали их потому, что нам нужно было все, что у них было, и мы знали, что их жизни были осуждены Богом за их грех – грех измены англичанам, соль которых они ели. Они скакали вверх и вниз с горы на гору, трясясь в своих сёдлах и вопя о пощаде. А мы медленно загоняли их, как скотину, пока не загнали всех в широкую долину Шеор Кот. Многие из них умерли от недостатка воды, но много их и осталось, и никто из них не мог сопротивляться нам. Мы пошли прямо на них, хватали их голыми руками по два сразу, валили на землю, и наши мальчики, ещё не умевшие владеть саблей, приканчивали их. Моя часть добычи была такая-то и такая-то, столько-то ружей и столько-то сёдел. А ружья были очень хороши в то время. Теперь мы крадём казённые ружья и не нуждаемся в гладкоствольных. Да, без сомнения, мы стёрли этот полк с лица земли, и даже память о нем уже умирает. Хотя люди говорят…
На этом месте рассказ обрывается, и нет никакой возможности установить, что именно говорят об этом жители пограничной полосы. Афганцы вообще очень скрытны и предпочитают делать что-нибудь дурное, чем говорить об этом. Они могут оставаться спокойными и вести себя вполне прилично в течение нескольких месяцев, а потом вдруг ночью без всякого предупреждения обрушиваются на какой-нибудь полицейский пост, перерезают горло одному или двум констеблям, вихрем проносятся по деревне, хватают трех или четырех женщин и мчатся с ними обратно в красном зареве пылающих тростниковых крыш, гоня перед собой рогатый скот и коз, которых они пригоняют в свои пустынные горы. В этих случаях индийское правительство просило их: «Ну, пожалуйста, ведите себя теперь хорошо, и мы вам все простим». А племя, участвовавшее в последнем набеге, приставляло палец к носу и говорило дерзости. Тогда правительство говорило: «Не лучше ли будет, если вы заплатите небольшую сумму за те трупы, которые нашли после вас в деревне в ту ночь?» Тут племя начинало изворачиваться, лгать и дерзить, а некоторые из молодёжи только ради того, чтобы показать своё презрение к власти, нападали на другой пост и стреляли в пограничный земляной форт, если им удавалось убить английского офицера. Тут уж правительство обращалось к ним с такой речью: «Имейте в виду, что если вы будете продолжать в том же духе, мы вас проучим». Если племя точно знало, что делается в это время в Индии, оно оправдывалось или грубило, смотря по тому, узнавало ли оно, что правительство занято другими делами, или что оно готово посвятить все своё внимание их проступкам. Некоторые племена имели самые точные сведения о том, до какого предела можно дойти. Другие же ругались, теряли головы и сами приглашали правительство вмешаться. С печалью и слезами, украдкой бросая взгляд на плательщиков налогов у себя дома, которые упорно считали эти военные упражнения варварским способом войны с завоевательной целью, правительство снаряжало небольшую, но дорогостоящую полевую бригаду с несколькими орудиями и посылало её в горы, чтобы изгнать провинившееся племя из долин, где растёт зерно, на вершины гор, где нечего есть. Племя собирало все свои силы и наслаждалось кампанией, потому что оно знало, что их женщин никто не тронет, что за их ранеными будут ухаживать, а не мучить их и что, как только будет съедено все зерно, они могут спуститься вниз и начать переговоры с английским генералом, как будто бы они были настоящими противниками. А потом, много-много лет спустя, они будут по грошам выплачивать правительству штраф за пролитую кровь и рассказывать своим детям, как они тысячами избивали красные куртки. Единственной тёмной стороной этой пикниковой войны была склонность красных курток к взрывам при помощи пороха их укреплённых фортов и башен.
Во главе всех вождей маленьких племён, или маленьких кланов, которые могли подробно вычислить, во что обходилось англичанам передвижение белых войск, направленных против них, стоял мулла-бандит, которого мы назовём Гулла Кутта Мулла. Его страсть к убийствам на пограничной полосе – ради самого искусства убивать – внушала почти уважение. Он мог бы из любви к искусству зарезать почтового курьера или бомбардировать ружейным огнём земляной форт, когда он знал, что наши люди нуждаются в отдыхе. В свободное время он отправлялся к соседним племенам и подбивал их на всякого рода злонамеренные выходки. Он содержал что-то вроде гостиницы для молодцов из его деревни, провинившихся перед законом; гостиница эта была расположена в долине Берзунд. Всякий важный преступник в той пограничной полосе мог укрыться в Берзунде, который считался вполне надёжным местом. В долину можно было попасть только через узкое ущелье, которое можно было в пять минут превратить в смертельную ловушку. Оно было окружено высокими горами, которые считались неприступными для всех, кроме прирождённых горцев, здесь-то и жил Гулла Кутта Мулла, как в большом государстве, во главе колонии глинобитных и каменных хижин, и в каждой такой хижине висела какая-нибудь часть красной одежды или других солдатских принадлежностей, награбленных с трупов. Правительство особенно желало захватить его и однажды послало ему официальное приглашение явиться, чтобы быть повешенным за несколько убийств, в которых он принимал непосредственное участие.