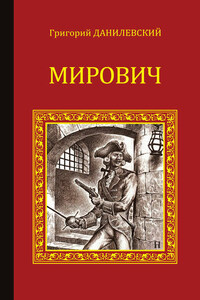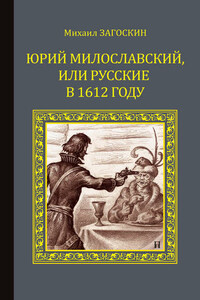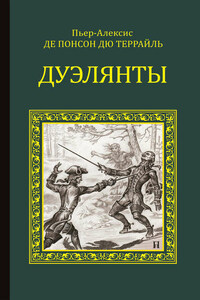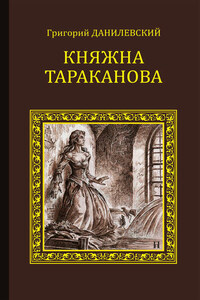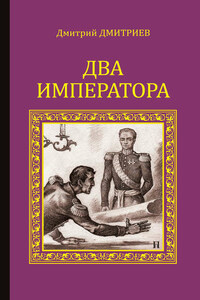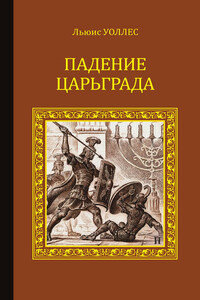I. Курьер из завоеванной Пруссии
Императрица Елисавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 года, в самый разгар войны России с Пруссией. Войска Фридриха были уже не те: лучшие его офицеры убиты или взяты в плен.
За год перед тем отряд генерал-поручика Петра Ивановича Панина овладел Берлином. Казаки, с союзниками-кроатами, опустошили столицу Фридриха Второго, разграбили в ней до трехсот домов, не пощадили и загородного королевского дворца: изломали в нем дорогую мебель, перебили фарфор, бронзы и зеркала, изорвали штофные и гобеленовые обои, изрубили итальянские картины и разнесли в клочки кабинет редкостей.
Начальники не отставали от подчиненных. Дано было приказание прогнать сквозь строй «Под-липами» берлинских «газетиров» за то, что эти публицисты слишком обидно и дерзко писали о русских. Вследствие такого приказа «противные России, печатные в газетах письма» жгли через палача под виселицей, а сочинителей тех писем вывели на экзекуционс-плац, чтобы наказать, за их противности, шпицрутеном. Генерал Чернышев их помиловал. Одного «дусёргельда» на вино, на сигары и вообще на угощение русской армии было истребовано от Берлина сто тысяч. Измена командира отдельного русского корпуса, графа Тотлебена, и его арест, с общего совета всех русских полковых командиров, на марше в Померании не изменили рвения победоносной армии. Положение Фридриха было отчаянное. Он из прусского короля стал опять ничтожным бранденбургским курфюрстом. В Кёнигсберге поселился русский губернатор, отец Суворова. Вся Пруссия была завоевана и – после роковой надписи Елисаветы «быть по сему» на докладе о ее присоединении – присягнула в подданство русской императрице. В этой новой «губернии» стали вводить русские порядки. В ней явилась русская миссия с архимандритом; начали чеканить русскую монету. И вдруг обстоятельства изменились…
Племянник Елисаветы Петровны, император Петр III, в самый день смерти тетки, вошел с обожаемым им королем Фридрихом в переговоры о перемирии. Губернатор Суворов, по именному указу, сдал войска и управление прусским королевством генерал-поручику Петру Ивановичу Панину, а сам уехал в Петербург и стал, из-за долгов, публиковать в ведомостях о продаже своего имущества. За ним, радуясь манифесту «о вольности дворянства», двинулись под разными предлогами в Россию и другие офицеры, особенно штабные. Огорчения обидных уступок забывались. Всех волей-неволей манило из долгого похода на родину…
В конце февраля 1762 года, на курьерской тройке в пошевнях, по пути из Пруссии в Петербург выехал среднего роста, лет двадцати двух, сухощавый, с черными строгими, несколько рассеянными и как бы недовольными глазами, офицер из Кёнигсберга. Был второй час пополудни. Он спешил застать присутствие в военной коллегии. От въезда в город у Калинкина моста до здания коллегии (Штегельмановский дом на Мойке, у Красного моста, – где ныне Институт глухонемых) офицер всячески торопил ямщика. Десять дней в пути в ростепель и половодье по Литве сильно его утомили. Он вез собственноручные бумаги Панина, с робким, хотя ясным предложением – попытаться продолжать войну. В мыслях офицера рисовался ожидаемый им, полный неизвестности, прием, борьба Панина с дворскими партиями и вероятное сочувствие и поздравления товарищей. Он добрался до коллегии, одернул на себе поношенный зеленый, с таким же воротом, кафтан и красный камзол, обмахнул снег с черных штиблет и тупоносых, без пряжек, истоптанных башмаков и оправил ненапудренные букли и космы развившейся в дороге светло-русой, запорошенной инеем косы. Спросив в коллегии генерала, к которому вез от Панина еще частное письмо, он сдал пакеты и, измученный дорогой, ожидал, что его станут расспрашивать, готовил в уме ответы, подбирал убедительные слова.