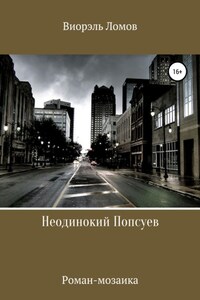«Память – это преодоление отсутствия», – процитировал я в своем первом романе. А что такое я? Да та же самая память. Память – это я. И вспоминая что-то, я всего-навсего преодолеваю самого себя, отсутствующего в будущем, а может, и в настоящем. Вытаскиваю как Мюнхгаузен себя за волосы из болота. То есть всё по большому счету выдумываю. При этом ни на минуту не забываю, что из прошлого можно взять лишь то, что в прошлом можно и оставить.
***
Я вспоминаю… Что же вижу прежде всего? Нет, не себя, не кого-то конкретно близкого. Передо мной витают образы. Они путаются – образы реально живших людей и рожденные усилием моего воспоминания. Они навязчивы, липнут, как мошка, словно я им что-то обещал. Может, они и впрямь (когда еще были теми людьми) читали во мне обещание вспомнить их, чувствовали его? Знали, что переживу и напишу о них? Что ж, если воспоминания рождены этим импульсом, я обязан вспомнить все, что обещал им, в том числе одним лишь фактом своего существования должен вспомнить о том, что поселило в них надежду.
Как странно держать в руках невесомую, неосязаемую, невидимую ткань воспоминаний, выуживать почти растворившиеся в бесконечности мгновений прошлого собственные ощущения и мысли!
***
Почти ничего не помню из школьных лет. Просуммировать, не набрать и месяца. Память блокирует вход в те годы, словно предохраняя от прозрений, а может быть, потрясений…
В пятом классе получил у физика Мюллера, толстого, флегматичного еврея или немца, тройку за оговорку. Сказал, что температура повысилась от минус пяти до минус семи. После этого столько было несравнимых с этой обид – их не помню, а эту запомнил! Дольше всего помнится мелкая несправедливость, но которая где-то и справедливость. Собственно, она остается навсегда, как игла в бабочке.
Мюллер запомнился тем, что съедал в буфете два стакана сметаны с двумя булочками, а еще ухаживал за рыжей десятиклассницей Ингой, белолицей в рыжих веснушках, тоненькой и гибкой, как лоза, а потом женился на ней. Лет через семь я встретил их с двумя рыжими детками. Он поздоровался, а Инга не заметила. Мюллер ссутулился, постарел. Инга раздалась в бедрах. Больше я их никогда не видел. Говорят, он умер через несколько лет. Думаю, ему тогда, отстаивая свое право на чувство, пришлось выдержать мощный, агрессивный напор дирекции школы и коллег.
Интересно, кроме жены и детей, кто-нибудь помнит его?
***
Вообще мало помню чего из своего прошлого, меньше, чем из некоторых фильмов. «Гамлет» Григория Козинцева или «Идиот» Ивана Пырьева остались яркими главами моей жизни, а многие события, имевшие отношения непосредственно ко мне, стерлись или помнятся как невзрачные лирические отступления или сноски внизу текста…
***
Каждая страна видится такой, какой помню ее по фильмам юности. Италия, например, черно-белая. Городская площадь в маленьком городке. Очень много камня, а на нем как божьи коровки люди. Мужчины, млея от безделья и скуки, попивают кофе, провожая клейкими взглядами редких женщин. Те и похожи и не похожи на итальянок: тонкие, гибкие, высокие. Мухи дохнут на лету от липкого зноя, тягучести каждой секунды. Или – другой эпизод: узкая, извилистая, крутая каменистая улочка, наполненная потоком шумящей карнавалом толпы. Тут уже появляется цвет, но залпами салюта, фейерверком. Или – совершенно сумасшедшая семейка – десятка два орущих родственников разных возрастов и образования, но одного воспитания, дед-придурок в коляске, плач, слезы, клятвы, ругань. То ли украли из тумбочки последние сольдо, то ли потеряла последнюю честь пятнадцатилетняя ссыкуха, и эти сольдо и честь все так бешено ищут, будто надеются найти. И в этом бедламе неважен цвет, там и так все горит… Но в то же время знаю: есть небо и море Италии, которые так любил Феличе Риварес, Овод, и так ненавидел Спартак.
***
Говорят, что жизнь – всего лишь воспоминания. Воспоминания собственных ощущений. Но почему тогда я вспоминаю то, чего не было со мной, чего я не переживал ни в опыте, ни умозрительно? Видимо, жизнь – не только воспоминания, жизнь – попытка увидеть ее такой, какой сотворил ее Господь. И счастье, когда хоть краем глаза удастся это подсмотреть. Это счастье познали Эдип и Гомер, и еще многие, прозревшие в своей слепоте.
***
Пожалуй, запомнились переживания, благодаря которым избавлялся капля за каплей от собственной глупости. Сколько лет переживал по поводу того, что мой ирландский сеттер, красавица Молли, которой покровительствовал главный ризеншнауцер Железнодорожного района, гуляя без привязи, ведет себя не так, как мне хотелось бы, не по-девичьи: убегает от меня, пьет из луж, подбирает всякую гадость, радостно лает на весь мир. А потом, когда ее карие глаза навеки покрылись непроницаемой пленкой, меня осенило: а сам-то я – разве не так же бегу сломя голову черт-те куда? Сам-то я пью, ем и говорю одно лишь непотребство, и чем я лучше собаки? Вот только ей этого уже не скажешь и не погладишь ее по шелковистой шерсти…
Несколько строк о собачьей жизни
В немецкой книге о собаках прочитал, что ирландский сеттер – очень мужественная собака и лучший друг лошади. И когда Молли лезла под кровать от салюта и от испуга лаяла на лошадок, я вполне авторитетно заявлял ей: «Молли! Не будь хуже того, чем ты должна быть!» Она слушала и лезла под кровать, и лаяла на коня.
«Молли, – продолжал я, чтобы хоть как-то отвлечь ее от der Mut (мужества), – хочешь быть членом Союза писателей России? Или композиторов? Подавай заявление. Я тебе рекомендацию напишу. Представь: ты член СП или СК. Ты там будешь самой мужественной и красивой».
Молли, трясясь, глядела на меня, дышала, высунув язык, думала.
***
Приснился сон.
Молли покакала в углу. Дочь стыдит ее.
Молли:
– Тебе что, не нравится, где я покакала?
Аня:
– А ты разве умеешь говорить?
– Умею.
– А что же не говорила?
– А ты меня не спрашивала ни о чем.
Долго разговаривали.
– Хочешь, я в другом месте буду какать? – предложила Молли.
– Надо подумать, – сказала Аня.
Этот сон помню лучше всей своей трудовой биографии.
***
Собаке надо обязательно свои деяния хоть на другой стороне улицы, но закопать. Это собачий талант. Чтобы Молли не пачкала лапы в земле, я ей запрещал делать это. Как-то поймал себя на том, что говорю: «Спасибо. Копать не надо».