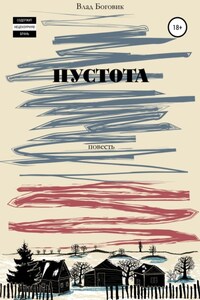Недавно вычищенный от зарослей двор принимал в свои объятия рыхлого старика с ходунками. На скошенной траве едва заметно проступала тропинка к дому. Григорьевич видел что-то знакомое, родное, но оно постепенно растворялось, как сахар в горячем чае, а стоило его помешать мыслями – и вовсе исчезало.
Петя обогнал отца, открыл две половинки двери.
– Осторожно, – указал он на декроттуар, – чуть правее.
Григорьевич вошёл в залитую светом веранду. Ощутил запах чужого дома и свежей извести. Он остановился, чтобы передохнуть. Почесал ляжку и осмотрелся вокруг. Куда он меня ведёт? Под потолком висели чистая мухоловка и лампочка на проводе. Под ногами терпел пятипудовое тело чёрный резиновый коврик. Чтобы пройти дальше, в сени, нужно переступить порог, а это – испытание. Петя придержал отца, тот поднял ходунки, шагнул правой ногой, левой. Справился. Скрипнула дверь. Скрипнули его кости.
В прихожей Григорьевича встретили потресканная печь и швейная машинка на чугунной станине. Расстояние к следующему проёму казалось километровым. Мало-помалу он дотелепал к нему. Одышка уже давала о себе знать. Тёплый воздух вырывался из носа. Кожа на шее дрожала. Руки едва ли не ломились, будто сухие ветки сгоревшего от удара молнии дерева.
– Вот твоя комната, – сказал Петя.
Голый пол из кривых досок. Белые стены. Возле окна на столе умостился толстый телевизор, в углу поблёскивал советский лакированный шкаф, рядом стоял стул-туалет с прорезанным сидением и ведром под ним, а над кроватью висел ковёр – ровесник Григорьевича и, наверное, единственный, кому его дано понять. В другом конце комнаты наблюдал за всеми полупустой антикварный буфет.
Петя улыбался, ждал от отца хоть какого-то слова или кивка, или ответной улыбки, но тот молчал, словно готовился бросить ходунки, развернуться и уйти, уйти домой, закончить сию постановку. Именно постановкой всё это показалось Пете на миг.
– Вот смотри, узнаёшь?
Старик медленно повернул голову.
– Узнаёшь? – повторил Петя и показал на буфет.
Там стояла фотография молодого Григорьевича – человека, которого уже нет. Статный, в новом пиджаке, с довольным лицом и планами на будущее. Он и подумать не мог, что через пару десятков лет будет еле дыша смотреть себе в лицо.
«Не по…» начал старик, но кашель оборвал его на полуслове. Заслезились глаза, покраснело лицо. Изо рта брызгала слюна и вместе с ней вылетали частички давней подруги – жизни. Петя похлопал отца по спине и тот, после двух завершающих «э-э-эхгэ», затих.
– Смотри ближе, – Петя поднёс фото к его лицу. – Теперь узнаёшь? Кто это?
– Я-а, – ответил Григорьевич. – Откудова она тут взялась?
Петя взял вафельное полотенце со стола и вытер ему подбородок.
– Откуда-то взялась. Давай, садись. Вот сюда.
Григорьевич опустился на кровать, протяжно вздохнул и задрыгал ногами. Резиновые тапочки упали на пол. Петя открыл форточку и сел рядом. Тёплый осенний ветерок коснулся морщинистой кожи Григорьевича. Возле его лица закружилась муха. Он махнул рукой, и она отдалилась. Старик всматривался в её пируэты, пытался уловить каждое движение. А муха дразнила его: «Смотри, старикашка, как я могу, а ты уже и ноги не поднимешь скоро, ха-ха!» Летала от ковра к окну и обратно. Круг за кругом. Потом села Григорьевичу на плечо. Петя попытался поймать, но она увильнула и продолжила выпендриваться. Облетела вокруг люстры. Вокруг телевизора. Туда-сюда, туда-сюда. Села на стол. Хлоп. Жужжание стихло. Муха превратилась в кашу и удачно дополнила узор скатерти.
– А вечером домой? – спросил Григорьевич.
Петя затяжбил. Какой можно придумать ответ? И нужен ли он вообще?
– Тамара ещё в больнице. Я же тебе говорил. Немного поживёшь тут, а потом поедем домой.
– А чей… это дом?
– Мой. То есть твой. Я тебе купил. Бать, не переживай. Сваха будет приходить кормить тебя. Ты же помнишь её?
Григорьевич кивнул.
– А я буду приезжать на выходные.
– Откуда?
– Из Житомира.
– А что там?
– Ну живу я там, бать, уже восемнадцать лет. Забыл?
– Не, – сказал Григорьевич и всё, что ему было непонятно, стало ещё более непонятней.
Петя ушёл, а он остался сидеть на кровати с полной уверенностью в том, что к вечеру его отвезут домой к жене.
Год назад у Григорьевича случился микроинсульт. На дне рождения у друга он выпил «на коня», встал и повалился как сноп, задев рукою тарелку с недоеденным голубцом и рюмку.
После этого вся его жизнь покатилась в пропасть.
Он начал падать, мочиться под себя и кашлять во время еды. Жена Тамара по пару раз на день находила Григорьевича, лежащего то на огороде, то в сарае, то около туалета, то ещё где-нибудь. Подымала его сама, а когда не получалось, тащила к месту, где мужу было на что опереться. Синякам и ссадинам на его теле не было счёту. Болело всё. Вольная ходьба стала роскошью, которая редко удавалась. Ходунков он стыдился, поэтому пришлось одолжить у соседа костыли.
Хоть Григорьевич и ложился спать в подгузнике, но всё равно часто встречал утро в мокрой постели. А иногда и днём Тамара замечала у него пятно на штанах и просила надеть чистые, но он упрямо отворачивался и говорил, что там сухо.
Как-то раз младшая дочь Тоня сказала матери, что ей противно видеть этого обоссаного старика и она хочет приезжать на выходные, чтобы отдохнуть, а не нюхать мочу. Тамара удивилась и хотела выругать дочь, но ничего кроме «нельзя же так, он ведь твой отец» сказать не смогла. На что получила ответ: «Он мне не отец и никогда им не был». Затем падчерицы переселили Григорьевича в отдельную комнату с маленьким окошком, которая раньше использовалась как кладовая. Покупать машинку никто не собирался, а вручную постель стиралась редко, одежда тоже. Из-за этого, проходя мимо двери Григорьевича, падчерицы задерживали дыхание или прикрывали нос, чему и учили своих детей. А когда замечали, что дверь открыта, сразу же бежали и демонстративно захлопывали.
Чем старик заслужил такое отношение – неясно. Треть жизни он проработал ради них, ради новой семьи. Двадцать шесть лет назад умерла его первая жена, от которой родились Коля, Яна и Петя. А через год он встретил Тамару. Григорьевич нашёл в ней отраду, но потерял связь со своими детьми, общался только на расстоянии.
Прошло время, и он привык к новому дому, жене и падчерицам. Даже не смущался их полигамной семьи. У Тони и Вали по трое детей от одного мужика. Когда Вале было негде жить, она переехала к сестре и её мужу в трёхкомнатную квартиру. Тогда ещё хватало места всем. У Тони была только одна дочка. Общая крыша сблизила, и вскоре забеременела Валя, потом опять Тоня, опять Валя. Тоня, Валя, Тоня. Теперь глава семейства в старости от жажды не умрёт. Но это не точно.