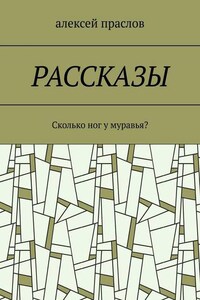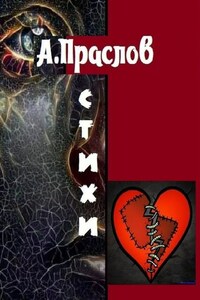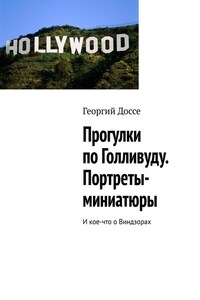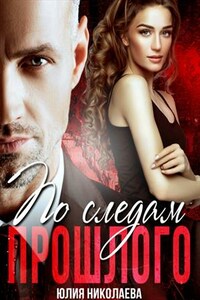Пётр Иванович Жаров схоронил свою жену в начале весны. Место на кладбище досталось им, он считал, хорошее. Всего сто шагов от входа и налево у самой ограды-стены – её могила. Поначалу эта стена раздражала его. Голая неоштукатуренная кладка кирпичей с потёками раствора своей казённостью сбивала с тихого печального настроя. Но к лету она затянулась плющём, расцвела весёлыми вьюнками и, словно, подобрела. А краснота кирпичей, кое-где проглядывавшая сквозь густую вязь плюща да шалашик из старой коричневой жести, который венчал стену по длине, даже добавляли домашности и уюта. Это успокаивало Жарова, стройного седого и всё ещё красивого старика. Тёплый зелёный июнь смягчил его, понемногу выманил из ожесточённого безразличия к себе и к жизни вокруг, в которое он впал после смерти жены, но не разбавил тоску по ней. Ему было одиноко.
В прошлый свой приход Пётр Иванович заметил, что через ряд, тоже у стены, появилась новая могила. По утрам в этом уголке кладбища тень, и бледно-голубая оградка из торчащих вверх тонких пик, памятник такой же окраски чётко рисовались на тёмном фоне зелени. Тогда, перед уходом, Жаров поинтересовался «соседкой». Покойница и вправду оказалась женщиной. Совсем молодая, в гимнастёрке с лейтенантскими погонами, из-под пилотки – чубчик кудряшек, красивая.
– Жить бы да жить тебе. – вслух пожалел её Пётр Иванович. Он глянул на даты под фотографией и удивился. Оказалось, что она всего на шесть лет моложе его. Как покойница жена. «С войны фото.» – догадался он и опять вслух проговорил:
– Всё равно жаль!
В этот раз он пришёл рано, по холодку, ещё не было шести. У новой оградки, вцепившись обеими руками в тонкие пички, стоял мужчина. Жаров видел его со спины. Длинный светлый плащ, тёмная полоса выбившегося шарфа и седая голова. Старый, одинокий и, наверное, больной, раз в жару в плаще, человек. Жарову захотелось посочувствовать ему. Горяча, свежа была и его боль и до сих пор хотелось чьего-либо участия. Что плохого в том, что старик пожалеет старика, человек человека?
Проходя специально мимо, он кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. Мужчина шевельнулся. Пётр Иванович прижал руки к груди и сделал лёгкий поклон в его сторону. На мужчину он не смотрел, боясь увидеть в чужих глазах тоску и растерянность, от чего и сам ещё не избавился. Чуть постояв с опущенной головой и ещё раз поклонившись, он повернулся уходить, но резкий громкий стон остановил его. Жаров оглянулся. Зацепившись воротником за пичку, мужчина висел на ограде. Крепкая ткань плаща не дала ему опуститься на землю, и он завис со вздёрнутыми вверх от натяжения рукавами, как распятый. Застёгнутый ворот упёрся в подбородок, запрокинул потное, с открытым ртом, лицо. И Жаров узнал его:
– Капитан!
Тяжёлая усталость, как наброшенная сеть, мгновенно опутала его…
…Так называемый Госфильтр Пётр Жаров проходил в небольшом городке под Москвой. Молодой лейтенант, сковыривая прыщи на подбородке, смотрел на Петра виновато и уважительно. Спрашивал тихо, как бы извиняясь, записывал неторопливо ответы и опять поднимал лицо к стоящему напротив Петру. Жаров, напуганный рассказами о проверке, совсем успокоился и отвечал честно, не утаивая и не сглаживая даже те мелочи, которые могли ему навредить и о которых можно было умолчать. За два года и девять месяцев он много думал о том, виноват ли он, задавал себе вопросы, какие, как он предполагал, зададут ему по возвращении его из плена, находил на них достойные и, главное, правдивые ответы и уверился в том, что никакой вины за ним нет.
Петру нравился тихий, уважительный лейтенант. Делал своё дело человек спокойно и уверенно, и проверяемый, Пётр чувствовал по себе, принимал это, как необходимую формальность.
Вошёл капитан, бросил свою фуражку на стол перед лейтенантом, тот сразу вскочил, козырнул и отошёл к окну. Капитан, усталый, злой, сел на его место, ширкнул взглядом по делу Петра, потом по нему самому и покривился, видно, учуял запах его гниющей руки.
Петра не обидел его взгляд. Он привык к этому, и не осуждал ни усталость, ни злость капитана, наверное, честно провоевавшего всю войну в особом отделе. Теперь, когда пограничные столбы были врыты в свои старые лунки, дел для особистов стало не меньше. «Потерпим и это», – подумал Пётр, глядя на усталого капитана. Даст бог, проживётся это время, отойдут подальше, забудутся обиды и злости, тогда можно будет присесть где-нибудь за столиком или на бережке, на рыбалке, да и поговорить о том, кому было тяжелее, кому легче. А то и помолчать вместе, зная, что никому и нигде в те годы сладко не было.
Пётр устал. Он не мог бы сказать, чего ждал больше: решения своей участи или облегчения. Проклятая «пустяковая» рана не давала и не даёт ему житья. Поначалу всё вроде стало заживать. Расщепленные кости спаялись в твёрдый бугристый комель, подсохла и втянулась в воронки ран новая кожа, зачесалась под болячками. И Пётр обрадовался – значит, дело идёт на поправку. Но радость была недолгой. Рука начала гнить. Отскочили обманувшие его болячки, вздулась кроваво-синими волдырями кожа, и заломило руку болезненной зубной ломотой. Боль была постоянной. Скоро у Петра не осталось сил терпеть. Ни работать, ни спать он уже не мог. Ноги ещё держали его, тело, хотя и слабо, подчинялось приказам, но желание умереть было сильнее и безжалостней.
Ночами луна, попадавшая в маленькие, кривые оконца, освещала серо-зелёные лица с чёрными, как у черепов, провалами глазниц. Огоньки коротких самокруток плавали в темноте от одной тени к другой, слабыми вспышками раскура разгоняя бредовые видения тьмы. Петру казалось, до явной, физической ощутимости, что всё происходящее уже за пределами человеческого терпения, и он с жаждой ждал смерти. Все страхи давно были пережиты и такой исход казался ему избавлением. Снежным утром под Новый год он не встал с нар.
Но умереть ему не дали.
– Не-е, хера с два им! Не торопись в яму-то, не надо… А кто её… для них копать будет… да побольше… да поглубже? Так что вставай… Вставай, вставай! Да вставай же ты, сучье вымя!
Получеловек-полутень с кривым прострелом очередью от шеи до правого соска стащил Петра с нар и, хрипя, шипя в ухо негромкой родной матершиной, почти на себе доволок его до места работ.
– Убей меня, друг… Пристрели… – молил его Пётр, сгорая в своём жару, -не могу! Пристрели!
– Чем я тебя? – хрипнул тот в ответ. – Этим, что ль? – он свободной рукой мазанул по своему паху.
Где хрипун брал силы на злость, Пётр не мог понять. Он сознавал, что пропустил тот момент, когда можно было сдержать себя, не дать нарывной, стреляющей боли выесть силы и желание жить, но, как петля стягивает дыхание, так и сознание душил вопрос: «Зачем? Зачем так жить?» Сон, явь, бред стали неразличимы. Когда его спрятали в неглубокую нишу из-под выбранной глины, завалили снятыми с себя телогрейками, шинелями, чтобы скрыть от охранения, он, унюхав запах сырой земли, оттаявшей от дыхания, закричал: