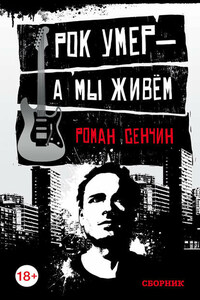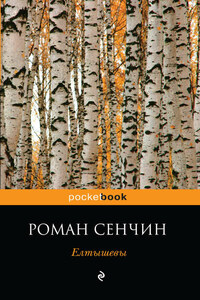Осенью и зимой по утрам в будни он видел за окном одно и то же – колонна белых огней медленно двигалась внизу и уходила почти под дом. Через двойные рамы слышался ровный, размеренный гул; иногда из него выделялся треск трактора или рёв мощного грузовика, случалось, вскрикивал нетерпеливо-обидчиво клаксон оттёртой на край легковушки, ещё реже гул разрезала сирена «Скорой помощи» или кряканье милицейских «Фордов» и «Лад», депутатской «Ауди».
Но что-нибудь особенное происходило редко, и колонна огней напоминала хорошо отрепетированное то ли ритуальное, то ли воинское шествие, где каждый несёт светящийся фонарь… А вечером можно было наблюдать, как бегут прочь из-под дома мелкие красные точки – казалось, что участники утреннего шествия, добравшись куда-то, целый день с кем-то сражаясь или добиваясь увидеть святыню, в итоге оказались разбиты, размётаны, и теперь остатки воинства пытаются спастись, укрыться, чтоб завтра повторить то же самое – снова сплотиться в крепкую, длинную колонну и, освещая путь белыми фонарями, решительно двигаться вперёд. И на стёкла окна снова будет давить гул, беспрерывный, угрожающий, словно в колонне дружно, сжав челюсти, на одной ноте тянут: «М-м-м…»
Он не то чтобы любил по утрам стоять у окна – нет, он даже не замечал, как, умывшись, почистив зубы, побрившись, заварив чашку кофе и закурив первую за день сигарету, подходил к окну и смотрел. И видел в мутном полумраке жёлтые точки окон соседних домов, синеватый свет фонарей, разноцветные гирлянды на магазинах и, главное, жирную колонну тёмных шевелящихся существ, освещающих себе путь белыми огнями. И во сколько бы ни подошёл к окну – в семь часов, в восемь и в половине девятого, – колонна была всё такой же густой, полнокровной, и он не мог определить, когда она возникает и когда редеет, иссякает; он не мог позволить себе дежурить у окна: днём были дела, необходимые и обязательные, а ночью – драгоценный, восстанавливающий силы сон. Но десяток минут, пока курилась сигарета и в чашке был кофе, он наблюдал. И вид плотной двигающейся массы внизу тоже давал силы, заражал желанием поскорее выйти из квартиры и двинуться вместе со всеми.
Времена, когда к скопищу людей и машин он чувствовал неприязнь, враждебность, когда оно приводило его то в бешенство, то в отчаяние, давно прошли. И теперь, стоя перед окном с чашкой кофе, неторопливо затягиваясь лёгким «Винстоном», он был рад, что колонна эта есть и сегодня, от неё исходила уверенность – уверенность в себе и в городе, в котором живёт он – один из многих и в то же время отдельный, особый, – Денис Чащин… В выходные и праздники порой становилось жутковато от того, что улица пуста, – казалось, за ночь все вымерли или ушли навсегда и он остался единственным…
У него была машина – почти напротив подъезда стояла серебристая «девятка» девяносто седьмого года выпуска. На ходу. Нужно только масло сменить, прогреть хорошенько, и можно ехать.
Конечно, на машине, пусть даже и на такой, престижнее, но удобнее всё-таки на метро. Хоть и давка, зато нет пробок. Да и дешевле. Одно дело, если бы жил где-нибудь в Бутове или в Видном, машина была бы необходима, а так… Ему повезло – квартиру нашёл в районе станции «Варшавская»; путь до работы занимал тридцать-сорок минут. Одна пересадка. И, глядя в вагоне на схему метрополитена, он ёжился от мысли, что мог бы обитать на одном из кончиков этих растопыренных разноцветных щупальцев. Ведь это пытка, каждодневная мука ехать, например, от «Битцевского парка» (одиннадцать перегонов до Кольцевой линии), или от «Планерной» (восемь долгих), или от считающегося элитным, чуть ли не санаторным Крылатского – девять перегонов, и поезд почти все время идёт по поверхности, зимой холодина, ветер, в дождь или в снег с потолка вагона летят чёрные, как сажа, капли… Да, с жильём ему повезло.
Уже шесть лет он снимал у одинокой пожилой женщины квартиру, оставшуюся ей от сестры, и хоть цена постепенно росла, но никогда не доходила до тех пугающих цифр, что звучали в обзорах рынка аренды жилья; женщина брала долларов на пятьдесят-сто меньше. Может быть, потому, что привыкла к нему, или, скорее, не была в курсе рыночных скачков…
В девять часов и примерно тридцать минут Чащин входил на «Варшавскую», вставлял в щель турникета магнитную карту. Раздавалось энергичное потрескивание, затем карта выскакивала из другой щели с отметкой о дате прохода и числе оставшихся поездок.
Спускался на платформу, занимал привычное место в районе, где должен был остановиться второй вагон от головы состава – там, по его наблюдениям, обычно бывало свободнее. Тревожно-бодряще звучал в динамиках голос дежурной по станции: «Во избежание несчастных случаев отойдите от края платформы за ограничительную линию!» Но люди толпились на краю – все спешили, всем очень нужно было скорее сесть в поезд. И Чащин, как только двери разъезжались, вминался в тела за ними. Неохотно, неуступчиво, но молча, без возмущений, пассажиры подавались, и Чащина тоже кто-то негрубо и уверенно толкал, вминал; люди утрамбовывались, прижимали к груди сумки и кейсы, подтягивали полы своей верхней одежды; двери захлопывались, и поезд, натужно шикнув, трогался, быстро разгонялся и уже летел по туннелю. Под днищем вагонов что-то звенькало и скрежетало, за окнами завывало, как вьюга. Головы пассажиров покачивались, а туловища оставались неподвижными, словно окаменевшими, – теснота держала крепче самых надёжных тисков.
Когда-то, стоя вот так, зажатым, он не знал куда смотреть, становилось неловко от такой близости с чужими людьми; случалось, нестерпимо возбуждали оказывающиеся рядом симпатичные девушки, и Чащин с трудом сдерживал желание дотронуться, погладить, погрузить лицо в душистые мягкие волосы. Но незаметно, без самовнушений и внутренней борьбы, он перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг, кто стоит рядом, даже зрение и слух выключались; он словно бы засыпал, и лишь аромат каких-нибудь необыкновенных духов иногда возвращал в реальность, заставлял вертеть головой. И Чащин злился: зачем побеспокоили, раздразнили, разбудили? А вокруг были сонные, отсутствующие лица.
После прошлогоднего взрыва между «Автозаводской» и «Павелецкой», когда погибло сорок человек, люди на некоторое время оживились – следили друг за другом, оглядывали большие сумки, пытались держаться подальше от кавказцев. Но потом вернулись в обычное состояние – выдерживать дополнительное напряжение было очень сложно.
Чащин работал в самом симпатичном ему районе Москвы – на Пятницкой улице. Вроде бы центр – Кремль видно, – но забытый теми, кто старается всё снести и перестроить, залить бетоном. Дома позапрошлого века стоят плотными шеренгами, трогательно обшарпанные, запылённые; сохранились скверики и дешёвые, простенькие кафешки. Впрочем, и пафосных мест тоже хватает.