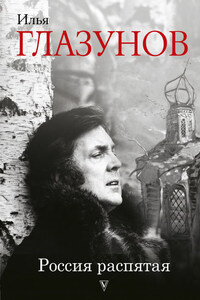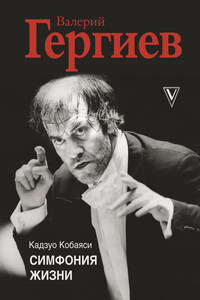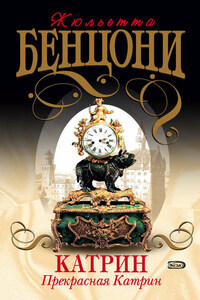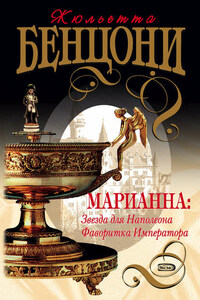Я не мог не написать эту книгу…
Мне иногда кажется, что я прожил сто жизней, но все они – и счастливые, и кошмарно-трагические – объединены одним понятием – моя жизнь в жестоком XX веке.
Я родился в 1930 году в России, в Ленинграде – Петербурге, в страшные годы геноцида, прежде всего, русского народа. В СССР, который иностранцы называли «страной без Бога», – в разгар коллективизации, означавшей уничтожение русского крестьянства, равно как и других кормильцев многонациональной страны. Недаром Иосиф Джугашвили, называвший себя Сталиным, именовал ее «второй революцией» после Октября 1917-го.
В годы моего детства страна окутывалась черным дымом новых фабрик и заводов, полнилась гулом первых сталинских пятилеток, знаменующих насильственную «железную поступь» так называемого социализма, покрывалась кровавой коростой концентрационных лагерей. Тогда Максим Горький, вернувшийся по указанию Кремля с солнечного острова Капри, захлебываясь от восторга, воспевал Соловки и Беломорканал как «школу коммунистического перевоспитания». Перевоспитание трудом – давняя идея Льва Толстого, кривого зеркала русской революции. Левая интеллигенция Европы и Америки рукоплескала «русскому чуду», «новому миру», творимому большевиками. Памятные мне детские журналы были до предела насыщены любовью к Сталину и ненавистью к попам, белогвардейцам и мировой буржуазии. По радио, как мне врезалось в память, непрестанно звучали стихи «Гренада, Гренада, Гренада моя» и прославлялись подвиги интербригадовцев, героически сражавшихся против мятежного генерала Франко – соратника Муссолини и Гитлера. Позже, уже в школе, нас то и дело заставляли вырезать из учебников портреты недавних вождей и маршалов СССР, которые вдруг становились разоблаченными «врагами народа». И еще помню тихий испуганный шепот моих родственников: «Кого вчера взяли? Кто следующий?». Я никак не мог понять, почему мой отец спит одетым, а среди ночи встает и подходит к окну, когда в колодец нашего двора вдруг въезжает машина…
Это было время, когда рушились древние русские города, стирались с лика земли православные монастыри и церкви, пылали костры из икон и священных книг, вовсю добивались «социально чуждые элементы». Задыхались без России Бунин и Рахманинов, Шаляпин и Коровин – и многие другие беженцы великого исхода, миллионы лучших людей России… В 1930 году в одиночестве и забвении умер Илья Ефимович Репин. Русские аристократы, генералы и офицеры работали таксистами и официантами в Париже. Не помогли им в беде масонские «братья»…
В изгнании Бунин с горечью писал о России: «Это было давно, бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки… Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия… – и настал конец, предел божьему прощению». (Бунин И. А. Собр. соч. – М.: Худ. лит., 1998. Т. 4. С. 221, 225).
Это было время, когда в Европе Муссолини выступил за пересмотр Версальского договора, а молодые немцы зачитывались книгой «Моя борьба» тогда еще молодого, далеко не всем известного Адольфа Гитлера. Британия по-прежнему высокомерно «правила морями», но в далекой Индии, «жемчужине английской короны», уже поднял знамя гражданского неповиновения Махатма Ганди. В 1930 году был убит в своей московской квартире «лучший, талантливейший поэт советской эпохи» Владимир Маяковский. И это тоже было в год моего рождения.
Вспоминая довоенное детство, оглядываясь вокруг себя сегодня, мне порой кажется, что все это было не со мной и в другом мире, в другой, еще живой, хотя и полуразрушенной России. Это было в Петербурге, который за 6 лет до моего рождения был назван Ленинградом. Какие одухотворенные, добрые, словно сошедшие со страниц журнала «Нива» лица окружали меня тогда! Таких не будет уже – они сметены навсегда войнами и красным геноцидом. Слышу цокот копыт по булыжной мостовой и звонки трамваев на Петроградской стороне. Помню, как поразили меня синие волнистые линии, отмечающие уровень наводнения Невы; глядя на них снизу вверх, я думал: а ведь во времена Пушкина вода поглотила бы и нас…
В памяти живет и наш петербургский двор, а неподалеку – Ботанический сад, шумящий высокими кронами деревьев, среди которых высился дуб-великан, посаженный, по преданию, самим Петром I. Его свалило наземь ураганом совсем недавно… В густой и таинственной зелени парка мерцали черные пруды, в одном из которых, как в зеркале, отражалась беседка, где любил в задумчивости сидеть Александр Блок. В Ботаническом саду я бывал до войны каждый день. Здесь, в деревянном двухэтажном доме, жила сестра матери Агнесса Константиновна Монтеверде, моя любимая тетя.
А вот всплывает из глубин памяти доброе лицо первой моей учительницы, Евдокии Ильиничны. Она приказывает мне переписать для школьной стенгазеты такие бравые стихи моего одноклассника:
Бросив пушки, танки, мины,
Удирали белофинны.
Всех быстрее удирал
Белофинский генерал.
А отец мой, выдирая в который раз из радиосети штепсель «черной тарелки», говорит: «Позорно, что они никак не могут проломить линию Маннергейма». Я, конечно, не знал тогда, что барон Маннергейм был адъютантом Государя Николая II и дружил с малоизвестным у нас (очевидно, по этой причине) великим финским художником Аксеном Галеном. Но я уже знал от матери, что у нас до революции была дача в Дибунах, неподалеку от Куоккалы, где жил Илья Ефимович Репин. И думала ли тогда моя мама – Ольга Константиновна, что через много-много лет ее сын, который стал, как она мечтала, художником, будет приглашен писать портрет Урхо Кекконена, президента Финляндии.
Моя память хранит многое. Страшные годы войны предстают передо мной как огромная апокалипсическая туча, сметающая все на своем пути. Словно это было вчера: возвращаясь с летней дачи в Вырице, мой отец, мама и я успели втиснуться в переполненный вагон последнего поезда, идущего в Ленинград. Немцы шли за нами буквально по пятам. Вспоминаются разговоры взрослых: «Вот тебе и несокрушимая… Как драпают! У ополченцев желторотых одна винтовка на 12 человек, да и та «трехлинейка» царских времен!» Кто-то, теснящийся в проходе, добавил: «Обещали – своей земли вершка не отдадим, а немец за два месяца пол-России оттяпал». Другой тихим шепотом вставил: «Говорят, немцы назначили губернатором Киева князя Мещерского; церкви открывают, колхозы распускают. Листовку сам видел: немцы собираются через неделю взять Ленинград и уже банкет в «Астории» назначили». «А я другую видел: на ней сын Сталина с немецкими офицерами сфотографирован, – добавил бородатый мужик в косоворотке. И продолжил: – Власти нету, райкомы пустые, а магазины грабят».