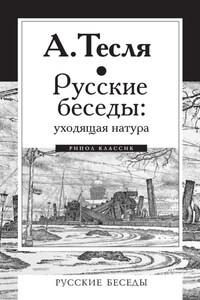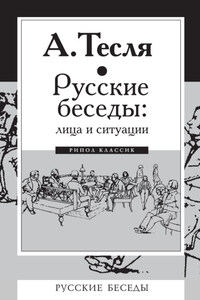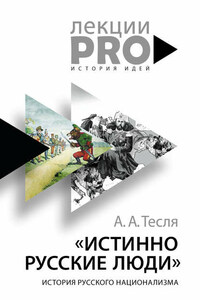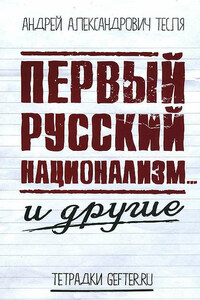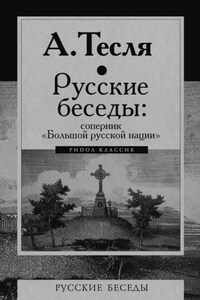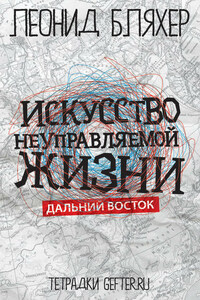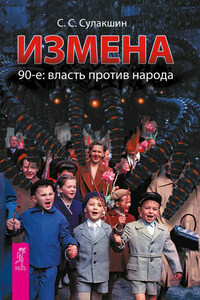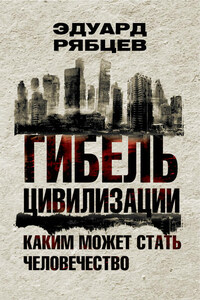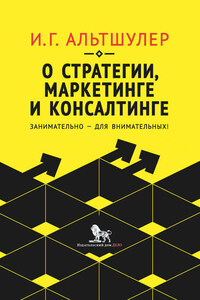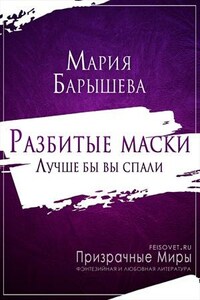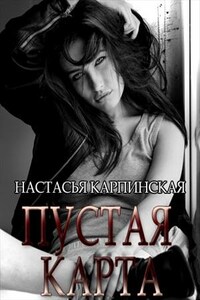Старый мир, европейский мир, закончился в 1914 г. – тогда же, собственно, закончилась и старая Россия. Для нас, правда, 1914 г. оказался затемнен другим водоразделом – 1917-м, но и февраль, и октябрь того года – лишь следствия или, точнее, одно из действ общеевропейской драмы, разыгрываемой с августа 1914-го. В данном сборнике весьма немного сказано о самих этих событиях, но все, о чем в нем говорится, происходит в их тени – в ожидании, переживании, действии. Для одних, как, например, для Бакунина, вопрос был в том, как похоронить этот в корне несправедливый мир – как можно устроить другой способ человеческого общежитья. Для иных, как для Драгоманова, речь шла о том, что перемены неизбежны – реальность меняется в самых основаниях: эти изменения можно приветствовать или осуждать, но они есть данность – и, следовательно, вопрос в том, как возможно устроить разумное человеческое сосуществование – не окончательно, но в движении, что придет или что может прийти при достаточных усилиях на смену существующим порядкам. Соловьев сходился с Бакуниным в том, что ожидал решительной перемены, меняющей все рамки нашего существования, – но если для Бакунина корень проблемы был в том, как можно избавиться от власти (arche), как возможна человеческая жизнь без иерархии (и потому антитеологизм был неотъемлемой частью его мысли – до тех пор, пока существует иерархия, пусть только небесная, будет воспроизводиться и иерархия земная), то для Соловьева целью было привести мир в должный порядок, иерархически устроить его: порядок небесный и порядок земной в конце концов должны были прийти в идеальное соответствие, а этот конец виделся в непосредственной близости.
В этот сборник вошли статьи, написанные с 2012 по 2017 г. и опубликованные в различных изданиях. Мне представляется, что несмотря на то что писалась каждая из них по конкретному поводу и в связи с конкретным вопросом, в них есть единство – сообщаемое самим материалом, уходящей или уже ушедшей натурой. Потому я и счел необходимым завершить этот сборник статьей, посвященной Йозефу Роту, – он писал уже «с той стороны зеркала», фиксируя новый мир, но принадлежа тому, который оставался лишь в памяти и в опыте, более ни к чему не применимый.
Правительствам, наверное, надо что-то пожертвовать безумию нашего века, но ровно столько, чтобы успокоить его и ни в коем случае ему не потворствовать.
Жозеф де Местр
Сделав все зависящее от меня, погрузился я в бесплодное ожидание. Zaf ra (завтра) – вот страшный пароль сей страны.
Жозеф де Местр – кавалеру де Росси, 14/26.XII.1804
Жозеф де Местр – фигура достаточно известная, однако известность ее ограничивается преимущественно именем да несколькими типовыми фразами и оценками, передающимися от одного автора к другому. Образованный читатель припомнит, разумеется, его пассаж о палаче и вспомнит его контекст – рассуждение о трансцендентности власти. Он, безусловно, реакционер – и идеолог ультрамонтанства, одна из ключевых фигур в движении католической церкви к I Ватикану. Отечественный читатель вспомнит также, что де Местр – прообраз одного из посетителей салона Анны Павловны Шерер, виконта Мортемара, а вспомнив это, может быть, припомнит и интерес к нему Льва Толстого, внимательного читателя, многое позаимствовавшего из текстов де Местра для «Войны и мира». В целом, однако, для основной аудитории он остается персонажем, лишенным конкретики, судят о нем обычно с чужих слов, и в этой ситуации нельзя не приветствовать появление переводов нескольких его текстов, дающих возможность восполнить безусловно интересный образ.
Граф де Местр приехал в Россию в 1803 г. и пробыл в ней 14 лет, ставших временем его творческого расцвета, за эти годы он напишет или подготовит вчерне все свои основные тексты, получит признание в обществе и успеет стать влиятельной политической фигурой. Здесь же он собирался и остаться, присоседившись к своему брату, Ксавьеру, перебравшемуся в Россию еще в 1800 г., вызвав семью и определив сына в конную гвардию. Ему и самому предлагали перейти на русскую службу, но это предложение он отклонил – весьма благоразумно, предпочтя влиять в том числе и на русские дела, не становясь подчиненным.
Официальный его статус определялся пребыванием в должности посланника короля Сардинии, однако у короля, которому служил де Местр, не было ни денег, ни армии, ни собственно королевства – он правил лишь милостью британского флота и теми крохами, что удавалось ему собрать со своих подданных и субсидиями британского правительства. Быть посланником державы, у которой практически нет ни сил, ни средств – тяжкая обязанность, которую де Местру удалось исполнить сполна, поставив на службу своему монарху свою известность и влияние, приобретенное силой и остротой ума. Он был реакционером – и одновременно одним из умнейших людей своего времени. Редкость подобного сочетания признавал и он сам: «Читайте историю, г-н Кавалер, и вы увидите, что великие таланты всегда служат революциям, а правая сторона только обороняется, ибо революции не были бы возможны, ежели великие таланты выступали бы против них» (Жозеф де Местр – кавалеру де Росси, 5-6/17-18.VII.1806).
Лишенный возможности опереться на авторитет того государства, посланником которого он был, де Местр избрал единственную реальную возможность оказывать и иметь влияние в Петербурге – свой талант собеседника и интеллектуала. Круг его постоянного общения составляли, в частности:
«…адмирал П.В. Чичагов, братья Н.А. и П.А. Толстые, министр внутренних дел В.П. Кочубей, граф П.А. Строганов, князь А.М. Белосельский-Белозерский, княгиня Е.Н. Вяземская. Список весьма красноречив: реформаторы из Негласного комитета Кочубей и Строганов[2] соседствуют с ярыми противниками реформ братьями Толстыми. Не менее показательно и пояснение де Местра ‹…›: „Таким образом я разговариваю с высшей силой“. „Высшая сила“ – это Александр I. Характерно, что „разговаривает“ с ней де Местр не только через проводников правительственного курса, но и через оппозицию. Савойский посланник верно уловил суть политики Александра I – лавирование между противоположными лагерями и стравливание сторонников и противников реформ» (Парсамов, 2010: 248–249).
Де Местр заставлял себя слушать – для петербургского общества он был необычен, как, впрочем, и для любого. Но в Петербурге, в кругу новой знати (а в России она была неизбежно новой, даже если могла в некоторых случаях отсылать к древним родословным[3]) он производил необыкновенное впечатление. Общество, напитанное непереваренными новыми европейскими идеями и мнениями, то, где мысль десятилетней давности считалась уже отжившей, недостойной рассмотрения, встретилось с первоклассным интеллектуалом, европейской знаменитостью, чьи суждения шли вразрез со всем, что привыкли считать за «последнее слово», но в то же время и само претендовало быть этим самым «последним словом», который говорил совершенно непривычные для просвещенческого сознания вещи, и в то же время проповедуемое им оказывалось нередко тем, что желали услышать его влиятельные собеседники – он давал интеллектуальный аргумент в ситуации, когда казалось, что все аргументы подобного рода в руках противника. При этом он смущал самих реакционеров – для них он был слишком «другим»: как и у всякого мыслителя, его «реакция» оказывалась стимулом для мысли, он возвращался «назад», но чтобы вернуться назад, ему приходилось ходить нехожеными или давно забытыми тропами. Если одних он шокировал своими рассуждениями о Бонапарте, будучи готов проигнорировать принципы легитимизма, полагая, что Господь мог избрать и такой путь для реализации своей воли, то других поражал серьезностью своей веры – за всем остроумием и точностью взгляда обнаруживалась своеобразная религиозная философия. В мире, где одни верили «по обязанности», а другие не верили от уверенности в силах своего ума, в мире еще не дошедшего до своего воплощения, но уже ставшего бесспорным принципом секулярного сознания, понимающего веру и религию лишь как одну из «сфер жизни», «культурных форм», которую можно отгородить от всех других практически непроницаемыми перегородками и где уж точно политическое мышление должно быть свободно от религиозных «предрассудков», он воплощал новое, возвращение (раскрытие) религиозного в политику(е) – опыт революции, не только пережитой, но и осмысленной им, стал для него и возвращением к Богу и к пониманию религиозного, как лежащего в основе политического (когда религиозный выбор является первым политическим – выбором послушания, повиновения).