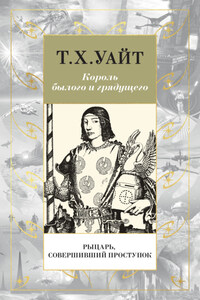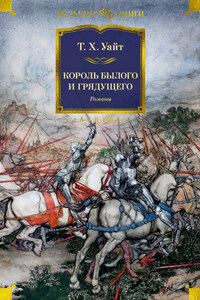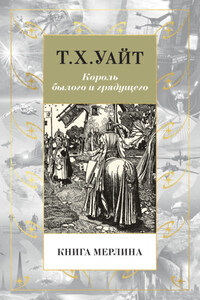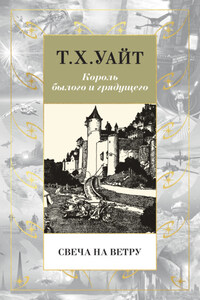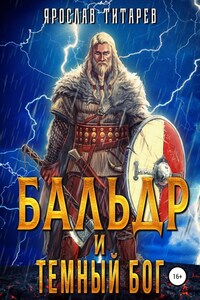В Замке Бенвика мальчик-француз разглядывал свое лицо, отраженное полированной поверхностью шлема. Шлем отливал на солнце упрямым металлическим блеском. В сущности, он мало чем отличался от касок, какие и поныне носят солдаты, – зеркало из него было плохое, но лучшего мальчику раздобыть не удалось. Он вертел его так и этак, надеясь получить общее представление о своем лице по различным искажениям, создаваемым выпуклостями шлема. Он хотел уяснить, что он собой представляет, и страшился того, что ему предстояло узнать.
Мальчику казалось, что в нем есть какой-то изъян. Всю свою жизнь – даже став великим человеком и увидев мир лежащим у своих ног – он ощущал этот недостаток: нечто таившееся в самой глубине души, осознаваемое, постыдное, но так и не понятое. Не стоит и нам пытаться это понять. Не нужно из праздного любопытства ломиться в дверь, которую он предпочел оставить закрытой.
Стены Оружейной, посреди которой стоял мальчик, украшали орудия войны. Последние два часа он без остановки крутил в воздухе пару гантелей (он называл их «грузиками») и пел сам себе песню без слов – равно как и без мотива. Ему было пятнадцать лет. Он только что вернулся из Англии, где отец его, Король Бан Бенвикский, помогал Английскому Королю в подавлении мятежа. Если вы помните, Артур намеревался созвать для Круглого Стола именно юных рыцарей и приметил на пиру Ланселота, победившего в большинстве игр.
Ланселот, размахивая в воздухе гантелями и издавая бессловесный шум, напряженно размышлял о Короле Артуре. Он был влюблен в Короля. Потому-то он и размахивал своими «грузиками». Он помнил каждое слово того единственного разговора, который состоялся между ним и его героем.
Когда они грузились на корабль, чтобы отплыть во Францию, Артур, поцеловав на прощание Короля Бана, окликнул Ланселота, и они вдвоем отошли в один из тихих уголков судна. Фоном для их разговора служили украшенные гербами паруса Банова флота, матросы на корабельных снастях, орудийные башни, лучники и чайки, похожие на хлопья свинцовых белил.
– Ланс, – сказал Король, – отойдем на минутку, ладно?
– Сэр.
– Я присматривался к тебе во время игр на пиру.
– Сэр.
– Похоже, ты победил в большинстве из них.
Ланселот скосил глаза к кончику носа.
– Мне нужны люди, искусные в играх, и побольше, чтобы помочь в осуществлении одной идеи. Не сейчас – после, когда я действительно стану Королем и в моем королевстве наступит покой. Вот я и подумал, может быть, ты согласишься помочь мне, когда подрастешь?
Мальчик словно бы поежился и вдруг поднял на собеседника вспыхнувшие глаза.
– Это касается рыцарей, – продолжал Артур. – Я собираюсь основать рыцарский орден – что-то вроде Ордена Подвязки, – который сможет противостоять Силе. Ты бы хотел присоединиться к нему?
– Да.
Король вглядывался в мальчика, затрудняясь понять, польщен ли тот, напуган или просто не хочет показаться невеждой.
– Ты понимаешь, о чем я говорю?
И тут Ланселот совершенно обескуражил Артура.
– У нас во Франции это называется «Fort Маупе» – «Сильная Рука», – пояснил он. – Самый сильный человек в клане добивается положения главы, а после этого творит что захочет. Потому мы и зовем это «Сильной Рукой». Ты хочешь положить конец правлению Сильной Руки, собрав воедино рыцарей, которые больше верят в правоту, чем в силу. Да, мне бы очень хотелось стать одним из них. Но сначала мне нужно вырасти. Спасибо. Теперь же – прощай.
И они отплыли из Англии – мальчик стоял на носу корабля не оглядываясь, ибо не желал выказывать того, что чувствовал. В ночь свадебного пиршества он уже влюбился в Артура и увозил с собою во Францию запечатленный в душе образ блестящего северного Короля, сидевшего за вечерней трапезой в блеске и славе своих военных побед.
За черными глазами, которые усиленно вглядывались в шлем, таился сон, виденный Ланселотом прошлой ночью. Семь столетий назад – или пятнадцать, если принять хронологию Мэлори, – человек относился к снам так же серьезно, как нынешний психиатр, а сон Ланселота был сном тревожным. Не потому, что он означал что-либо, – ибо что этот сон означает, мальчик и представить не мог, – а потому, что он оставил после себя чувство утраты. Вот что ему приснилось.
Сначала Ланселот и его младший брат, Эктор Окраинный, сидели в креслах. Затем они поднялись и вскочили на коней, и Ланселот сказал: «Едем разыскивать то, чего не найдем». Так они и поступили. Но Муж Силы напал на Ланселота и побил его, и сорвал с него облачение, и нарядил его в другие одежды, все в узлах, и заставил его ехать верхом на осле вместо коня. И так Ланселот выехал к источнику, которого прекраснее никогда не видывал в жизни, и сошел с осла, чтобы напиться. И казалось ему, что нет ничего лучше на свете, как испить из того источника. Но едва только потянулся он губами к ключу, как вода отступила. Вода уходила по срубу, и он не мог до нее дотянуться. Это бегство воды оставило в нем ощущение покинутости.
* * *
Артур, и источник, и гантели, которым предстояло сделать его достойным Артура, и боль в руках, уставших вращать гантели, – все это смутно теснилось в сознании мальчика, пока он так и этак клонил шлем, держа его в ладонях, но голову мальчика занимала иная мысль – мысль о лице, отраженном в металле, и о чем-то, что, свихнувшись в глубине его духа, породило такое лицо. Он не был склонен к самообману. Он знал, что, как ни верти в руках морион, нового тот ничего не расскажет. Он давно уж решил, что, повзрослев и став настоящим рыцарем, изберет себе прозвание, полное грусти. Его как старшего сына непременно положат в рыцари, но он не примет имени «сэр Ланселот». Нет, он назовет себя Кавалером Мальфет – Рыцарем, Совершившим Проступок.
Насколько мальчик мог различить – и, конечно, думал он, тому должна иметься причина, – лицо его было столь же уродливо, сколь у чудища из зверинца Артура.
Более всего он походил на африканскую обезьяну.
В конце концов Ланселот стал величайшим из рыцарей Короля Артура. Он стал тем, чем в крикете был Брадман, – обладателем наивысшего турнирного рейтинга. Вторым и третьим были Тристрам и Ламорак.
Однако следует помнить, что человек не может стать хорошим игроком в крикет, не потратив достаточно времени на учение, и что рыцарский поединок, как и крикет, был своего рода искусством. Во многом он и походил на крикет. На каждом турнире имелся судейский шатер с самым настоящим судьей внутри, который помечал на пергаменте набранные баллы, точь-в-точь как теперешний крикетный судья отмечает очки за каждую пробежку. Да и зрителям, разгуливавшим в праздничных нарядах вокруг турнирного поля, от главной трибуны к шатру с буфетом, поединки должны были казаться очень похожими на спортивные игры. Времени на них уходило преизрядно – подачи сэра Ланселота, если он бился с добрым рыцарем, часто занимали весь день, – а в движениях бойцов, по причине тяжести вооружения, было нечто от замедленной съемки. Когда начиналась рубка, сражающиеся вставали один против другого на зеленом лугу, совершенно как бэтсмен и боулер, – с той только разницей, что стояли они друг к другу поближе, – и, скажем, сэр Гавейн начинал с дуговой подачи, а сэр Ланселот уклонялся, изящно скользнув по траве ногой, на которую переносился вес, затем сэр Ланселот отвечал йоркером, прорывавшим защиту сэра Гавейна, – только называлось это «сделать выпад», – и все окружавшие поле разражались аплодисментами. И может быть, в королевском шатре Артур поворачивался к Гвиневере и отмечал, что техника работы ногами у великого человека, как и всегда, отменна. Сзади с рыцарских шлемов свисали маленькие занавесочки, защищавшие металл от горячего солнца, – наподобие тех носовых платков, которые в наши дни игроки в крикет иногда прилаживают к своим кепкам.