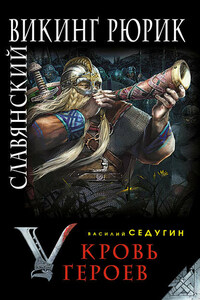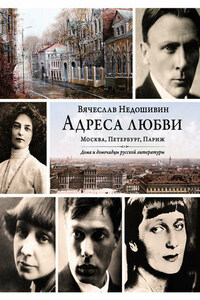Когда она умерла, земля встала дыбом. Словно дождавшись освобождения от надоевшей насельницы, испод кухни стремительно пророс всем, что веками таилось в придавленных недрах. Сквозь лопнувший пол лезла наверх трава, комья смерзшегося грунта, корни, камни, тряпки. Горбатилось нечто монолитное и темное, похожее на спину чудовища. Печь, столько испекшая шанег и рыбников, всегда гревшая в пазухе горшок с пшенной кашей или политую маслом картошку, развалилась надвое. В груде известки и кирпичных обломков синела щербатая верхушка огромного валуна.
Дверь в спальню валялась далеко внутри, точно выбитая пинком.
– Мне страшно, – прошептала Елена. Не понимая, куда и как поставить ногу, чтобы не провалиться, нужно ли здесь вообще двигаться, не утянет ли, она ухватилась за рукав сестры. – Может, уйдем?
Татьяна не ответила. Внимательно и настороженно смотрела на разгром. Было и страшно, и грустно, и неожиданно, и холодил восторг возможной схватки с чем-то. Казалось, если она крикнет – эй, что происходит? – горб в полу шевельнется, разбуженный. И разлетится всё по сторонам вместе с двумя изумленными женщинами. Быть убитой издыхающим жилищем почившей бабушки – не смешно ли? Прихлопнутой сосновыми половицами, которые они ребятенками усердно терли и намывали, не обидно ли!.. Всё, что она видела, оставалось вне разумения, возмущая и притягивая, как манит ныряльщиков глубина.
С осторожностью, опасаясь не столько свалиться, сколько потревожить чей-то перерыв в разрушительной работе, Татьяна пробралась в бабушкину спальню. Кровать исчезла. На голых, стенах, не осталось ни фотографий, ни знаменитой метровой косы, напоминавшей девочкам скальп из романов Майна Рида. Диван был на месте, даже с ящиками.
– Тяни, – велела она Елене.
– Боюсь…
– Заладила одно и то же, сорока! Тяни, говорю.
Внутри отыскался стеклянный гардеробный номерок с выжженной семеркой, самодельная фоторамка и крохотная деревянная трубка, прокуренная до дыры. Татьяна понюхала. От трубки терпко несло въевшимся табаком.
Задребезжали окна. Деревья на улице не шелыхались, но стекла звенели, будто их трясли. От желоба остывшей голландки пахнуло холодной сажей.
– Уходим. Стул возьми.
– Какой? – прошептала Елена.
– Сзади валяется.
За диваном лежал венский стул, с дырочками в отполированном многими задницами круглом сиденье. Схватив его, сестра помчалась вон.
Татьяна еще постояла на пороге, запоминая картину разгрома. Какая-то неведомая сила уничтожала дом так мощно и яростно, что сомнений не возникало: здесь и сейчас уничтожается память. Горб дорастет до скалы и окончательно, навсегда задавит камнем некогда живое и даже знаменитое место.
– Где же ты нагрешила, в чем напортачила, Екатерина Алексеевна? – подумала Татьяна и неожиданно поклонилась в пояс тому, что уже нетерпеливо ожидало ее ухода. Стекла тряслись вовсю, воздух потрескивал, от земли тянуло прелью. Трижды перекрестившись, она повернулась спиной и, с трудом сдерживая желание оглянуться, спустилась во двор. Забрала у растерянной сестры стул и поспешила в сторону людей и машин.
– Чувство, что там никогда и никто не жил, – догнала Елена. – Но ведь сорок дней! Месяц… Куда все делось?
– Разобрали.
– Старушечьи-то шмотки? У нее даже простенького телевизора не было. Книжки и разговоры за самоваром, и те – шепотом. Может, бомжи разворовали?
– Спроси что-нибудь полегче…
– Что с городом творится! Безлюдье, улицы не стрижены, не метены. Осталась ли тут какая власть? Я обезумела: сколько брошенных домов! А в них лампочки горят. Раньше о бомжах и не слыхивали. А теперь…
– Да, страшный город, – поддержала Татьяна.
Они шли по некогда центральной улице своего детства, мимо бывшего кинотеатра, бывшей школы, бывшего дома культуры. Пятиэтажные хрущебы слепо моргали застекленными балконами. Общественная баня была еще жива, действовала, но окружавшие ее кусты боярышника с китайками усохли, и некому было сжечь в кочегарке кривые обвалившиеся стволы. Бетонный мост зиял провалами, смещенными плитами, выпавшими перилами, и не рухнул пока в бурные волны потому, наверное, что мало кто проходил и проезжал по нему. Когда-то он слыл достижением инженерной мысли, соединив растекшееся устье студеного Белого моря.
Женщины несли стул, на них никто не оглядывался. С моря привычно задувал ветер, пахло гниющими водорослями.
– Бомжи не могли, – продолжала практичная Елена. – Да и как бы они сунулись туда, где Борис хозяин, в принципе.
– Значит, сам Борис. Что подходящее – снес в скупку, в металлолом, пропил. Остальное на свалку.
– Стал бы он на свалку таскать! Не барское дело. Братья, вроде, младшие были.
– Померли.
– Камни эти… Слушай, может, подкоп делали? Искали ценности? Как тогда, у прадедушки. А что! Бабуля тот еще фрукт была.
– Лен, какие глупости ты городишь. Там подвала никогда не было. Дом на сваях стоял, потому что внизу – мерзлота. И с чего ты решила, что – фрукт?
– Ну а как же. Помнишь, у нее народ всякий топтался? Кто только не сидел за самоваром, даже парни молодые заходили. Ходят и ходят, шу-шу да шу-шу… Один чаевник за дверь, другой ему на смену. И всё по-тихому, как в больнице. Вот, что это было?.. Сомневаюсь, выходила ли сама бабуля куда из дома?
– Скажешь тоже! Конечно, выходила. Забыла? Сколько раз мы после уроков прибегали, а к двери батожок приставлен – нет никого.
– Ага! – обрадовалась Елена. – Батожок! Вот искушение, скажи? Дом открыт, одна только палочка сторожит.
– И однажды ты эту палочку отодвинула, – засмеялась Татьяна, вспомнив, как нетерпеливая, шустрая семилетняя Ленка, которую все называли «помело», не выдержала и убрала от входной двери сигнальный батожок. Ужасно труся – то ли неизвестности, то ли внезапного возвращения бабушки, – они поднялись по лестнице. Девять гладких стертых ступеней.
Метров в шестьдесят, оттого полупустая, кухня была привычно строга, тиха и надраена. Блестел на солнце голый пол. Светилась свежей побелкой печь. Поставок с остывшими углями для самовара стоял на чистом железном листе, похожий на стражника в черном мундире. Ушастая кадушка с водой покрыта деревянной крышкой, к уху, как обычно, прицеплен медный ковшик. Хозяин кухни – самоварище с вместимостью два ведра, начищенный до зеркального блеска, венчал длинный дощатый стол, застеленный клеенкой в мелкие розовые цветочки.
Девочки пару минут постояли в дверях, оглядывая знакомое, хоть и редко посещаемое, место. Им нравилось и одновременно не нравилось приходить сюда, где с ними мало разговаривали, но неотступно и строго приглядывали. Каждый раз бабушка учила делать что-то по хозяйству. Как мыть полы, как стирать собственные майки, елозя куском хозяйственного мыла по ребристой цинковой доске. Всё это было скучно, нудно, а заканчивалось традиционным чаепитием и молчаливым чтением книг. Внучки листали то, что принесли с собой, а бабушка Катя – «Приваловские миллионы». Книжка читалась и перечитывалась ею так давно и долго, что разбухшими страницами обрела размеры фолианта. Имелись ли в квартире другие книги, кроме «Приваловских миллионов», они не знали.