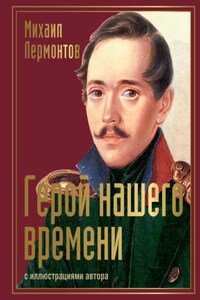Начало этого повествования относится к первым весенним дням 1918 года[…].
Собралась у меня наша привычная преферансная публика: отец Евдоким, настоятель кладбищенской церкви, сосед мой, отставной хриплый полковник, инженер-электрик, маленький, толстенький, похожий на степенного попугайчика в белом фуляровом галстуке, и я. Жена принесла нам солидное угощение: чай из сушеной морковной ботвы (отвар весьма вкусный и полезный), пайковые леденцы, песочное пирожное из овсяной муки. Она же умело разбавила заветные 25 граммов аптекарского ректифицированного спирта – стоимость двенадцатикратного цейсовского бинокля.
Мы с удовольствием подкрепились, попили чайку, закусили, похвалили золотые хозяйкины ручки. Потом кто-то сказал:
– Зачем же нам терять золотое время? Другой поддержал:
– И, правда, не заняться ли делом? А я закончил:
– Чтоб укрепить наш альянс, сыграем, братья, в преферанс. Пулька наша была старинная, ладная, давно сыгравшаяся. Нам уже не надо было ни о чем договариваться. Все знали, что играем по четверти копейки, с четырьмя разбойниками на каждого и с розыгрышем распасовок. За долгое время практики мы уже безошибочно привыкли к своеобразным жестам и к любимым поговорочкам партнеров.
Отец Евдоким купил на шесть без козыря. Я нарочно протянул руку, делая вид, что хочу придвинуть ему прикупку, и заранее знал, что он загородит ладонью карты и скажет:
– Нет, уж, пожалуйста, не беспокойтесь. Я уж сам в моем курятнике похозяйничаю…
Затем он осторожно и медленно вскрыл одну за другой обе карты, заслоняя их от партнеров широким рукавом рясы.
Лицо его стало совсем кислым и разочарованным. Он покачал головою, вздохнул и сказал уныло:
– Готов Тартаков! Вынужден играть семь пик. Зарвался!
– С присидцем, отец Евдоким? – лукаво спросил полковник.
– Какой тут присидец? Дай Бог свое отыграть. Молча зашлепали толстыми грязными картами. Свежих уже нигде нельзя было найти с тех пор, когда современный нам Калиостро, он же талантливый актер и он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский, одним росчерком пера реквизировал все карточные запасы с клеймом Воспитательного Дома: «Пеликан, кормящий своих детей собственным мясом».
Вскоре батюшка очутился в коробке. Предстояло ему: или бить тузом козырную даму, или прорезать маленькой. Все зависело от того, на чьей руке король. Положение было тяжелое и рискованное. Отец Евдоким уже постучал нервно ногтями по краешку стола. Партнеры ожидали, что он сейчас вытащит одно из своих любимых присловий, скажет: «Стала она призадумывать себя» или крякнет и воскликнет, точно в ужасе:
– Тут-то Менделеева и передернуло! Он поглядел пронзительным взором на своих контрпартнеров, инженера и полковника, но лица их были холодны и замкнуты. Счастье мое, что я, как сдававший, в игре не участвовал; я бы никак не устоял перед этим пытливым взглядом.
– Да-а-а, – протянул отец Евдоким. – Да-с. Тут-то Менделеева и…
И вдруг священник мгновенно умолк и стал бледнеть, не отводя глаз от двери в переднюю. Мы все невольно повернули головы в этом же направлении. Там стояла перепуганная и тоже бледная Катерина Матвеевна, наша кухарка и наш давний друг, родом из Гдовского уезда, похожая обычно на солидную каменную бабу, но теперь совсем растерявшаяся. За ее спиною тускло поблескивали лезвия примкнутых штыков и смутно шевелились толпившиеся в передней люди. Катерине Матвеевне казалось, что она что-то говорит, губы ее двигались, но из них не выходило ни одного звука.
Это пришли ко мне с обыском: четыре распоясанных, расстегнутых солдата (…) под командою стройного белесого маленького латышонка, туго и ловко одетого в походные желтые ремни новенького хаки. Шестым был долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке; правой руки у него не хватало по локоть.
Два солдата остались на кухне, все остальные вошли в комнату. Однорукий протянул перед собой грязный почтовый листок и сказал:
– По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск. Прошу кого-нибудь из хозяев следовать за мною.
Я встал, но жена сказала мне движением ресниц – сядь. Я все сделаю сама.
Я послушался. В некоторых серьезных случаях женскому темному инстинкту нужно повиноваться без рассуждений. Она отлично знала, что в ту злую пору во мне еще не улеглась, не угасла склонность к сарказму и вредная несдержанность на слово. Кроме того, у нее в разных таинственных уголках и ящичках комодов, буфетов и шифоньерок были тщательно схоронены крошечные пакетики с белой мукой, разного сорта крупами, сахаром, шоколадом, спиртом, табаком и другими вещами, на случай изнурения или болезни. Эти скудные припасы вскоре настоятельно понадобились нам, когда дочка наша и я заболели жестокой дизентерией после употребления в пищу жмыхов.
Конечно, беглый и невнимательный взгляд не мог бы сразу наткнуться на эти сокровища, если бы его не натолкнула какая-нибудь причина или примета. Потому-то обыскиваемому надо иметь при обыске свою душу в спокойных, холодных и уверенных руках. Но я бы, например, сопутствуя обыску, я бы, пожалуй, смог заставить себя молчать, не поднимать опущенных век и уж никак не косить глаза на питательное «табу». Но не думать о предметах и мысленно не видеть их – это было бы свыше моих психических сил. А ведь давно известно, что такое душевное напряжение непременно, как гипноз, передается мозгу мало-мальски опытного сыщика… и тут конец.
А ну-ка, закажите себе в течение двадцати минут не думать о белом медведе!
Однорукий комиссар и нарядный латыш пошли за женою. Она была восхитительно хладнокровна. В дверях столовой комиссар сказал ей любезно:
– Мы, собственно, интересуемся английской корреспонденцией вашего мужа. Поэтому, во избежание лишней возни и потери времени, покажите нам место, где находятся все его рукописи и документы. Домашних ваших пустяков мы трогать не будем.
«Хороши пустяки, – подумал я. – А заряженный на все восемь гнезд револьвер „веладог“, который засунут в узкое пространство между ванной и стеной? А наган, лежащий под плинтусом на террасе? Слава Богу, что жена отвела меня от этой игры в обыск».
Мы четверо остались на тех же местах. Над нами стояли сонные, грязные, вонючие, поминутно чешущиеся за пазухой и зевающие солдаты. Я предложил докончить пульку. Но мои добрые друзья зашипели на меня:
– Какая уж тут пулька! Вы лучше спрячьте поскорее карты, пока не поздно. Сами знаете, как на это теперь смотрят… Да и вообще тут для нас в чужом пиру похмелье. Ну, мы понимаем, вы писатель, вы там могли что-нибудь такое написать. А за что же нас-то арестовали?
Вообще, они явно впадали в панику. Отец Евдоким сказал: