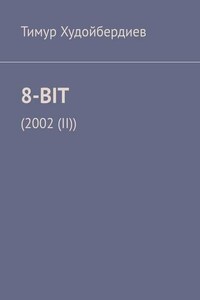она когда-нибудь напишет книгу обо всем об этом, но пока она не хочет ее писать, пока все на уровне ощущений, а значит, почти ложно. Ей было непросто, наверное, будет еще хуже, и, конечно, будет лучше, в этом даже у нее нет никаких сомнений, хотя сомнение – цемент ее жизни. Без сомнения она бы распалась, ровно так же случилось бы, если бы она сомневалась. Она распадается и чувствует это. Конечно, никто этого не замечает. Ей под сорок, она хороша собой, хороша для себя даже в процессе распада. У нее все в порядке со здоровьем, она прошла диспансеризацию от института, в котором она работает старшим лаборантом. Эти подробности не важны – как бы их избежать? В ее будущей книге не будет магистрального сюжета и бытовых подробностей, это вряд ли будет кому-то интересно, кроме нее, она это понимает.
Эта самая лаборантская работа не ее потолок, напротив, это эскиз видимости хоть какого-то нормального жизненного устройства в ненормальном мире, она дает ей возможность думать в свободное время (его до странности много). Она не позволяет закрутить себя в водоворот сплетен и интриг, она исполняет свое дело добросовестно и в срок, приходит и уходит, приходит и уходит. Ее лицо не запоминается с первого раза, многие думают, что она – вечная новенькая. Как и здесь в Талдоме.
«Как много в мире зла!» – повторяла она, когда ее обманули: она арендовала квартиру в интернете, вступила в переписку с хозяйкой (миловидная женщина в обнимку с двумя сыновьями-подростками), внесла залог за одну ночь, ей должно было хватить только одной ночи в Талдоме, но хозяйка квартиры, аккуратно отвечавшая на сообщения, в подробностях описывая однушку в микрорайоне Юбилейный, испарилась, внесла ее в черный список, не давая возможности даже послать куда подальше. Скорее всего, под видом женщины был какой-нибудь утырок, сосущий через трубочку чужие деньги. Подавись. «Глобализация зла! Легитимность зла!» – говорила она. Если ты не умеешь множить зло себе во благо, то ты недочеловек. «Ты – недочеловек», – шептала обида. Вокруг война, а тут всего лишь плевок в душу в размере трех тысяч, это такая мелочь, но от этой мелочи по-прежнему гадко, как и в довоенное время, притворяющееся мирным. Быть обманутой хозяйкой фейковой квартиры в Талдоме – об этом не споют рельсы, об этом не напишут книгу, только если какую-нибудь повесть.
В свободное от лаборантской работы время она занимается литературой, что-то пишет в заметках, но все, что она пишет, пока замуровано внутри, заблокировано, оно (ненаписанное) то ли зреет, то ли разлагается без запаха, может быть, она теряет время и зря надеется на его ход, а может быть, ее (книги) время еще не пришло. Пока же она учится слышать песни железнодорожных рельсов. Днем, стоя в тамбуре электрички, она услышала разговор двух контролеров. Это были быстро лысеющие мужчины, по-видимому накоротке друг с другом. Они говорили друг с другом на «вы». В совокупности с наглаженной формой это производило на нее какой-то трогательно-оптимистический эффект, привет из какой-то другой реальности.
Первый контролер. Вы слышали, рельсы опять поют?
Второй контролер (вслушиваясь, блаженно прищуривается). Да… давно не пели.
Входит третья контролер.
Третья контролер (разводит руками). Из туалета река течет опять.
Второй контролер (поет, голос неплох). Издалека в Талдом плывет река…
Ему не дают закончить, и вряд ли бы он подобрал подходящую рифму. Она, стоявшая в тамбуре и смотревшая на это контролерское трио, не смогла подобрать.
Первый контролер вдруг снимает пиджак и начинает размахивать им, как тореодор, а быка нет. Третья контролер складывает руки на груди («Нашел корову», – думает), ждет шутку от первого контролера, тоже прищуривается и готовит рот для смеха (не описать, надо видеть).
Первый контролер (трясет пиджаком). Давай мне швабру – тряпка готова!
«Могут ли за такое отношение к форме посадить?» – думает она. Нет, не третья контролер, а Она – гостья Талдома, автор ненаписанной книги. Могут, конечно.
Она сходит с подножки поезда. Никто не подал руки. Контролеры скрылись. Река течет. Рельсы молчат.
До заселения в фейковую квартиру еще два часа (она еще не обманута, она хотела снять гостиницу, но единственная гостиница в городе была забита под завязку). За время поездки на электричке (почти три часа) она проголодалась и решила зайти в первое попавшееся кафе – кажется, оно было и первым и последним. Кафе специализировалось на приготовлении пиццы, суши и лапши vok, в основном навынос.
Она. Скажите, что быстрее всего готовится?
Официантка (она же кассирша). Пицца и роллы до тридцати минут, лапша – пятнадцать.
Она. Давайте лапшу.
Официантка. Какую?
Она. Любую с курицей.
Официантка. В сливочном соусе устроит?
Она. Да. И капучино.
Официантка. Я машину мою (показывает на кофемашину).
Она. Когда вымоете?
Официантка. Не знаю… Не сегодня… Я второй промыв делаю.
Она. Хорошо. Тогда кока-колу в баночке.
Официантка. Кола «Добрый» только.
Она. Хорошо.
Официантка. Садитеся. Я позову, как будет готово.
«Официантка сама не подает, поэтому будет разжалована в просто кассиршу», – думает она. И это ее «ся» засело. До конца дня она будет добавлять его ко всем глаголам: улыбнулася, обернулася, посмотрелася, разочаровалася, отвернулася.
За соседним столиком сидит группа подростков, точнее, три группы, сформированные вокруг телефонов. Подростки смеются тик-токам, на столе валяются разноцветные объедки: краешки пиццы, остатки роллов «Филадельфия», пустые бутылки с доброй кока-колой. Подростки синхронно ржут без какого-либо стеснения, а в спокойном состоянии (до взрыва смеха) их рты дебиловато приоткрыты. Вот и не скажешь по-другому. Это сказано даже мягче, чем оно есть.
Один из подростков. Фу… блять, кто пернул?
Все резко разбегаются из-за стола. Остается только один полноватый парень в наушниках, который все пропустил и не вдупляет, почему вдруг все разбежались.
Один из подростков. Это он! Он!
Парень снимает наушники и спрашивает: «Че, блять, случилось?»
Она смотрит на них, ждет свою лапшу с курицей в сливочном соусе. Она понимает, что, если бы Рабле жил в наше время, он бы знал, что делать с этими ребятами на страницах своих текстов. Ей не противно от увиденного, не стыдно (это все просто и ожидаемо), ей удивительно в самом высшем смысле этого слова: ведь эти подростки ее видят, но для них она как предмет интерьера, как вот эта пластмассовая горка в игровой зоне, куда подростки удалились после выяснения, кто же испортил воздух. Это был тот, кто и задал вопрос (отработанная схема). Им по тринадцать-четырнадцать лет – думает она, хотя она никогда не могла верно определить возраст детей и забывала, сколько лет ей самой. Она не была в Талдоме двадцать лет. Вот эту цифру она помнила и уже от нее выстраивала систему других цифр своей жизни.