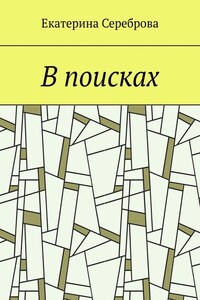Не прощупывается. Вместо предисловия
Екатеринбургу
Пульса нет. Одна тонкая, длинная, бесконечная линия на аппарате и звук такой монотонный, писклявый, как в каком-то фильме. Обойдёмся без дефибриллятора. Я очень вас прошу. Возвращаться – это плохая примета, доказано. И если даже посмотришь на себя в зеркало и скорчишь себе рожицу (своё истинное лицо наружу выпустишь), не поможет.
Бейся в грудь, впивайся кастетами (не твоими, взятыми тайком у отца, не твоего) в малахитовую грудь родного города, кричи не кричи – не дозовёшься.
– Пульс! Ишь чего захотел, пестрёныш! – говорит мне город голосом Бажова.
– Почему пестрёныш? – спрашиваю я город.
А город отвечает:
– Серой шейки на тебя нет. Какой же ты стал бесчувственный в этой своей Москве, как бамбуковый коврик, с помощью которого можно свернуть ролл.
Я ничего не отвечаю, я мало что понимаю в литературе, путаюсь в текстах Бажова и Мамина-Сибиряка, потому что их не читаю. И до сих пор боюсь Огневушки-поскакушки. И тех ребят во дворе, которые говорили, что она потаскушка и вообще не огонь.
В детстве я был уверен, что Бажов, Мамин и Сибиряк – живут одной семьёй, и Бажов в этой семье за старшего, потому что с бородой.
А вообще это всё неважно. Пульс у города есть, но не про мою честь.
Вспоминал день своего отъезда из Екатеринбурга. Сидел на чемоданах, на дорожку («вас ожидает белая Киа Рио, водитель – Джафар»), прямо как три сестры все разом, вместе, в одном флаконе. Но я уехал, а они нет. Но кто их знает. А вообще я больше Ольга. Я – стоик и кладу всё на алтарь, всхлипываю внутрь, застёгиваюсь на все пуговицы, и даже ту верхнюю, которую бы надо всё-таки расстегнуть. Как ты там будешь в Москве? Там ведь все нарастопашку (уральский диалект).
Два чемодана, весом в 32 килограмма (лимит был 30, пропустили без доплаты, последний поцелуй на прощание от города). В одном чемодане – левое предсердие, в другом – правое. А где желудочек? Где-то между.
Об этом нужно писать книгу. Но зачем? Зачем брать с собой сердце родного города в чужой город? Пока ты летел, все эти два часа полёта на «Победе» сердце ныло, болело, даже останавливалось (показалось), а потом даже заводилось (снова показалось), это всё твоё сердце, в груди малахитовой (пока), а то, другое – в чемоданы замурованное, – не выдержало и сбежало из багажного отделения, когда шмонали багаж. А ты ведь даже и не заметил, что шмонали и что сбежало.
Зачем ему твоя Москва? Что оно там не видело?
Где запястье у Екатеринбурга,
чтобы нащупать его пульс?
Где твоя грудь драгоценная,
малахитовая, прежняя,
где оно всё?
На Урале больше не существует малахитовых месторождений. Все камни везут из Африки. Я давно живу с этим.
Зачем-то придумал, что водителя такси
звали Джафар (в переводе с арабского —
«райский ручей, источник»). А машину не
придумал. Курсив мой.
Бажов умер от рака в Москве в 1950 году. Не знал. Значит, он мог ездить в метро и так же, как и я, бояться (удара турникета, досмотров, штрафов и др.).
Мамин умер от плеврита в Санкт-Петербурге и не знал о смерти Бажова, потому что умер задолго до этого. Перечитать «Серую шейку», сегодня же, проверить, насколько всё плохо.
А где Сибиряк? Умер? Что вы такое говорите. Типун вам на язык. Кто-нибудь его видел? Куда он опять за-пропасть-ился? Вот же его чемоданы стоят. Оба – его, не трогайте, он вернётся. Какая ещё примета? Нет, он всё никак не уедет. Ольга? Какая Ольга? Да, она с ним. Но они уже не вместе. Давно. Тёмная история.
А Сибиряк где-то между. Там же, где и желудочек. А вообще желудочков в сердце два – правый и левый.
Об этом надо писать книгу. И не по верхам щупать-нащупывать, а копать, и как можно глубже, до потери пульса.
Если будете проходить мимо «ИТАР-ТАССа»
не проходите мимо
Загляните в один из выемов в здании
Там, где вентиляционный выход
прямо напротив памятника Тимирязеву
Я всё это время был уверен
что из вентиляции идёт тёплый воздух
Поэтому он не мёрзнет
все эти пять московских зим
Я его вижу каждый Божий день
Но только сегодня решаюсь с ним заговорить
Его зовут Алик
1965 года рождения
Детдомовец
Родом из Баку
Христианин
Служил в Горьком
Потом в Москве
Работал парикмахером
Затем на стройке
Это всё было в восьмидесятые
На стройке платили копейки
Послал всё к чертовой матери и ушёл оттуда
Кто его мать и отец, никогда не интересовался
Без паспорта
Без семьи
Без жилья
Без зубов
И, кажется, без сожаления
Любит песни Ирины Понаровской,
особенно «Однажды»
Идеал женщины для него —
Тина Тёрнер и Далида
Гремучая смесь
Ну, может быть, ещё Анна Герман
Когда я сказал Алику, что равнодушен
к Герман
он готов был схватить меня за грудки,
но быстро остыл
На улице минус восемь, но кажется,
что все двадцать
И даже моя уральская закалка не-спа-са-ет
Алик не похож на бомжа
Хотя сам именует себя бичом
– Что с нас, бичей, взять, – повторяет
Когда я с ним говорил, не отрываясь смотрел
на его красивую каштановую бороду
Волосок к волоску
Наверное, Алик подстригает её
в общественном туалете
Всё-таки парикмахер, хоть и в прошлом
– Я себя не запускаю, как другие бичи, —
говорит с гордостью
У Алика недурной баритон
В его репертуаре песни 80-х и 90-х
В топ-листе:
• «Ты мой транзитный пассажир»
• «Я не могу иначе»
• «Покроется небо пылинками звёзд»
Спел даже песни на армянском и польском
Закончил Шаинским
Рядом стоит билборд с афишей концерта
где изображены Крокодил Гена, Львёнок,
Черепашка, Чебурашка
– Ты хоть Чебурашку знаешь? – спрашивает меня
Алик думает, что я с какой-то другой планеты
Наверное, так и есть
– Алик, а артистом не хотели стать?
У вас бы получилось.
– Хотел. Не взяли. Пришёл в «Останкино»,
там у меня попросили деньги.
Пусть выкусят, суки.
Алик знает наизусть все фотографии
на стендах «ТАССа»
Знает все морщинки, трещинки, буковки
на постерах с рекламами духов
На них красивые женщины закусывают губы
томно глядят вглубь его продрогшей души
отогревают как могут Алика в такой дубак
Мы говорим с Аликом двадцать минут
Я в термобелье
Но уже не чувствую пальцев на руках и ногах
А Алик вошёл в раж, всё поёт,
улыбаясь беззубым ртом
– Б…ть, Алик, у тебя голос прорезался? —
женский голос как труба
К нам подошла Светлана
женщина без возраста и дома
В каштановом шиньоне, стоящем дыбом