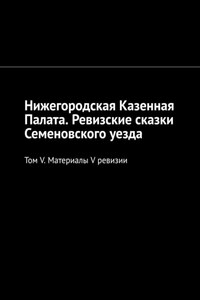Не странно ли, что Ницше, очевидно, не понимавший той существенной славянской черты, которая проявлялась и в единогласном решении создать обыденный храм и в единодушном его исполнении, сам тем не менее считал себя по происхождению славянином, производил себя от шляхетского рода Nietzky’иx? Говоря это, он, по его выражению, «причисляет себя к высшей расе». Характерно здесь, впрочем, то, что зачисляет он себя как раз в ту ветвь ее, которая, отрекшись об общеславянских преданий, изменила родному, исказила его и стала в своей исторической жизни воплощением не родового единства, а внутренней розни. И вот мы видим, что крайний индивидуалист Ницше восхищается как раз этою чертою польской расы, гордится правом каждого шляхтича уничтожить своим «liberum veto», своим единичным несогласием решение целого сейма. Этот шляхтич философии, более надменный и властолюбивый, чем все ее предшествующие короли и паны, противопоставляет свое «veto!» всему, что решили они за весь род человеческий. Во многих отношениях за это ему нельзя не быть благодарным: произвол и насилия философии требовали возмездия, и Ницше, поклонник жестокости, проявил ее в полной силе по отношению к самомнению и деспотии философии. Но, мощный в разрушении, был ли он достаточно силен в созидании истины?
Великая заслуга Ницше состоит в том, что он зовет к переходу за пределы добра и зла. Ошибка же его заключается в том, что вместо древа жизни он насаждал за этими пределами древо смерти. Он чувствовал необходимость для человека чего-то высшего, и эту потребность думал воплотить в своем «сверхчеловеке», который оказался, однако, лишь ничем не оправданным самопревознесением человека над себе подобными, и притом гораздо более ему подобными, нежели ему кажется: как Фауст, подмечая свои небольшие несходства со всеми смертными, Ницше принимает это ничтожное несходство за большое превосходство. А между тем высшее в человеке должно быть выше не существ ему подобных, а выше слепой, неразумной, смертоносной силы природы. Ницше же, влюбленный в свободу, опьяненный манией власти, относится к этой силе с истинно рабской апатией, с чисто рабским бессилием. Растрачивая свои силы на младенчески-тщеславное превознесение себя (сверхчеловека) над теми, кого он сам же называет пигмеями, он просматривает и оставляет без внимания общего врага-титана – смертоносную силу природы. Призывая к борьбе с себе подобными, он не зовет к борьбе с источником всеобщих бед, всеобщего зла; бессильно, малодушно мирится со смертью, с утратами; а если и говорит о возвратах жизни, то совершенно в ложном смысле, то есть опять – в смысле пассивном.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru