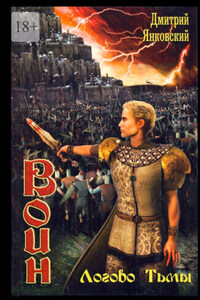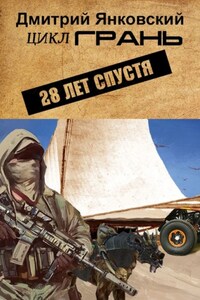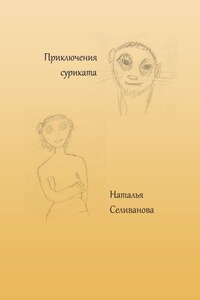От ветра по ковыльной степи шли серебристые волны, очень похожие на морскую рябь. Воздух был наполнен неповторимыми ароматами трав, к нему примешивался запах гидравлической жидкости от стоявшего на земле гравилета, пахла прогретая солнцем растрескавшаяся земля с блестками соли на ней, и еще в этот ансамбль вплетался едва уловимый, но очень важный для меня запах близкого моря. Турбины гравилета молчали, но степь и без этого была полна звуков – в небе, зависнув в сияющей от солнца вышине, пел жаворонок, ветер подсвистывал в стойках шасси, едва слышно шумели колышущиеся стебли. Звуки моря до моих ушей не долетали, но я знал, оно рядом.
Пилот гравилета дремал в кабине, а мне не сиделось внутри, я выбрался из бокового люка и стоял, сощурившись, подставив лицо ветру, впитывая запахи и звуки летней степи. Воротник моего повседневного мундира трепетал на ветру, рукава я закатал почти до локтя, вопреки уставу, и не из-за жары, а потому что при моем статусе в отряде охотников безобидное пренебрежение уставом позволяло делать акцент не на звании, не на должности, а именно на статусе.
Приземлились мы тут, в общем-то, без всякой значимой цели, просто чтобы не болтаться в воздухе и не тратить заряд водородных ячеек на маневрирование при ощутимом ветре, ожидая связи с кораблем. Можно было бы подождать вызова и на базе, но я намеренно этого делать не стал, так как на базе, без всякого сомнения, мне нашлось бы какое-нибудь срочное и важное дело лишь от того, что я попался бы на глаза Вершинскому. Мне жалко было этого пропитанного солнцем звенящего полдня, очень не хотелось провести его в штабе, или в тренажерном зале, или вообще в тесноте кабины симулятора, натаскивая новобранцев и демонстрируя им тонкости управления огневыми комплексами батипланов или тяжелых амфибий.
В тесную кабину мне все равно лезть придется, это уж как выпить дать, и совсем скоро, именно для этого я летел на корабль вместе с Чернухой, которая сейчас дремала в десантном отсеке. Нельзя сказать, что я этого не хотел. Нет, мне нравилась моя служба, нравилась даже больше, чем когда я представлял ее в своих мечтах задолго до того, как надел темно-синий мундир. Но мне жалко было этого звенящего полдня. В последнее время нагрузки на членов нашей команды были высокими, к тому же Вершинский их неуклонно повышал, от чего простые радости жизни, вроде сегодняшней, были нам почти недоступны. Просто постоять, подставив лицо ветру и послушать жаворонка. Я стоял, слушал, и мне было по-настоящему хорошо.
Позади меня хрустнула земля под штурмовыми ботинками, это Чернуха, надремавшись в прохладе десантного отсека, тоже выбралась наружу, размять кости.
– Классно тут, – произнесла она.
– Сам стою и прусь, – ответил я. – Целый день тут провел бы с превеликим удовольствием.
– Я тоже. И ночь.
– Рыбы бы наловили, – попробовал я уйти от развития ночной темы, -зажарили бы на костре, потом бы лежали в траве, пялясь на звезды и слушая сверчков.
Чернуха улыбнулась.
Странные это были мечты. Ведь никто бы не остановил нас, если бы мы попробовали после отбоя взять гравилет со стоянки, и махнуть в степь на нем. Но после отбоя уже не хотелось, потому что до отбоя Вершинский нам так давал пропотеть, что к вечеру оставалось только одно желание – проглотить ужин и улечься в койку. В общем, сегодня вышло не так, как обычно, выдалось больше часа чистого отдыха и возможность помечтать о большем.
– Красота. – Чернуха уселась у моих ног прямо в траву и прижалась щекой к моему бедру.
Когда мы бывали наедине, ну, пилота можно было не рассматривать в качестве соглядатая, Чернуха редко себе отказывала в таких проявлениях своей влюбленности. Она ластилась, как кошка, и мне это было всегда намного приятнее, чем я сам в этом себе готов был признаться. С моей же стороны это было совсем не такое чувство, какое я испытывал к Ксюше.
С Ксюшей все было ясно, там любовь с детства, там, если так можно выразиться, семья, обязательства, ответственность. Все как положено. А с Чернухой у меня ничего такого не было, да и вообще не было ничего серьезного, а была только ее влюбленность в меня, которую она наедине со мной не пыталась скрывать, а я не считал нужным ее одергивать. Хотя, как разграничить серьезное с несерьезным? И что серьезнее, крепкая дружба, приносящая радость нам обоим, или секс, после которого неизвестно, как все сложится? В общем, я не был готов пресекать проявления ее влюбленности, но и не было готов изменять Ксюше.
Точнее, мне это было не нужно. Хотя Ксюша, если уж быть с собой честным, чем дальше, тем более странной становилась. В том числе, и в постели. Но с Ксюшей у нас уж точно не дружба была, в Ксюшу я был влюблен, и стань она в десять раз более странной, чем стала теперь, это бы мою влюбленность в нее никак не уменьшило. Я был готов многое ей простить и многого не заметить. Ну, или не обратить внимание, если заметил. Да, Ксюша стала очень другой за прошедший год, но это никак моего отношения к ней не поменяло.
Вообще, если честно, мне однажды приснился сон, в котором моя мама, которая давно умерла, спрашивала меня, что бы я предпочел, чтобы Ксюша погибла тогда, после падения со скалы, или чтобы выжила, но стала такой, какой стала теперь. Я ответил маме, что меня все устраивает. Это правда. Но сам факт такой постановки вопроса во сне говорил, что все не так просто, как я хотел себе внушить, иначе мое подсознание никогда бы во сне так вопрос не сформулировало. Да еще из уст мамы.
Хотя, чему удивляться? Конечно, мне не нравилось, во что превращается Ксюша. С каждой принятой дозой реликта, спасшего ее от гибели два года назад, и без которого она теперь жить не могла, в Ксюше оставалось все меньше и меньше человеческого. Иногда мне казалось, что это реликт так влияет на психику, иногда, что трудно оставаться человеком, уже не являясь им по биологическому факту, а чаще я учитывал оба аспекта. Но я точно знал, что лучше так, чем как могло быть, не окажись у Вершинского в кармане тогда расчески из реликта. Тогда бы Ксюша умерла, с гарантией, а я бы винил в этом себя, винил бы в этом Вершинского, проклял бы и его, и весь клан охотников, никогда бы сам в охотники не пошел, остался бы в нашем лагере и быстро бы опустился ниже известковой пыли, покрывавшей наш карьер.
В общем, не о чем тут гадать. В Ксюшу я был влюблен до последней возможности. Но когда Чернуха вот так, по-детски непосредственно, ко мне прижималась, если никто не видел, мне было приятно. Очень. И в этом я тоже не собирался себя обманывать. Да и менять ничего не хотел. Всех все устраивало. Даже Ксюшу. Точнее ей, я подозревал, уже с полгодика было без разницы, насколько я ей верен и верен ли вообще. Она, как мне казалось, сама уже готова была переступить эту черту. Стабильность ее психологического состояния в реликтовом цикле еще год назад сильно зависела от сексуальной активности, и чем дальше, тем больше оно проявлялось. Я был на сто процентов уверен, что если она с кем-то, кроме меня, ляжет, я прощу ей такое без малейшего внутреннего сопротивления. Просто потому, что очень ее люблю. Парадокс? Нет уж, дудки. Не было в этом никакого парадокса. Парадокс подобного рода способен возникнуть лишь у того в голове, кто путает понятие любви и жажды обладания, или смешивает их в разных пропорциях. Не было у меня в отношении Ксюши и намека на собственнический инстинкт. Я ее любил, это чувство было моим достоянием, я от него, самого по себе, получал глубочайшую радость. Я рад был, что Ксюша жива, что живет она на одной со мной планете, я могу видеть ее каждый день, и даже спать с ней каждую ночь. С Ксюшей я понял, что любовь – это достояние любящего, а не того, кого любят. Любовью нельзя одарить кого-то, она только тебе самому, если ты ее испытываешь к кому-то, способна подарить радость и счастье. Она не требует ответа, если она настоящая, она вообще ничего не требует, кроме существования объекта любви. И я знал, что Чернуха ко мне испытывает такие же чувства, как я в отношении Ксюши. Как я мог ее оттолкнуть? Пусть будет счастлива от того, что я есть в ее жизни, так же, как я счастлив, что в моей жизни есть Ксюша.