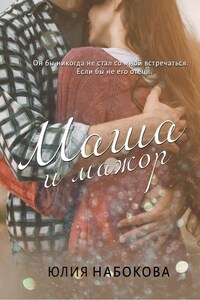Мороз-художник рисовал на окнах домов ледяные узоры. Подсвеченные изнутри окна были похожи на расписанные абажуры. За каждым теплилась жизнь. Каждое освещенное окно было дверью в человеческую жизнь, короткую, стремительную, но полнокровную. Заглянуть бы туда хоть на миг, погреться в огне чужого очага, украсть мгновение чужого счастья – но поздно.
Смеясь и повизгивая, меня обогнали три румяные студентки и юркнули в теплое нутро подъезда, торопясь согреться. Если верить новостям, последний раз такая стужа в Москве была зимой 1899-го. Я тогда была еще девочкой и целыми днями просиживала у камина, грея озябшие руки. Теперь я не чувствовала холода, ведь моя собственная кровь не теплее, чем снег, который не тает на губах. К заледенелому асфальту примерзла дохлая крыса, и я брезгливо обошла ее. В кино любят показывать вампиров, которые пьют крысиную кровь. Лично я таких за сто лет не встречала ни разу.
Поздние прохожие кутались в шарфы, торопясь добраться домой. Их день заканчивается. Моя ночь только началась. Впереди, вывернув из-за угла, замаячила тоненькая женская фигурка. Приталенная дубленка, высокие сапоги, распущенные платиновые волосы из-под теплой шапочки – мне хватило секундного осмотра, чтобы прибавить шаг. Девушка следит за собой, значит, ее кожа будет чистой, а тело будет пахнуть французскими духами…
Жертва почуяла меня, когда нас разделяет шагов пять. Испуганно обернулась, и на хорошеньком личике отразилось облегчение. Роковая ошибка. Никогда не стоит недооценивать хрупких блондинок, выглядящих на двадцать лет. Ведь они могут оказаться столетними вампиршами. Она даже не успела ничего понять, когда я стремительно шагнула к ней, поймав концы алого шерстяного шарфа, и рывком притянула к себе, нетерпеливо вдыхая аромат ланкомовского парфюма. Ничего личного, я просто голодна. Шарф стек к ногам послушной змейкой. Клыки резко прошили шею, и жертва безвольно обмякла, пока я лакомилась ее кровью. Закончив, я осторожно опустила ее на землю и отступила на шаг.
Девушка оказалась слабой. Я выпила совсем немного ее крови, но она свалилась в глубокий обморок. На улице холодно, бросить ее там значит подвергнуть опасности. Остаться рядом – значит подвергнуть риску себя. Я уже сделала шаг в сторону, когда у ног завибрировал мобильный, выпавший из ее сумочки. Из любопытства я подняла его и открыла входящую эсэмэску. «Сижу в аэропорту, жду посадки. Хочу скорее к тебе! Люблю, скучаю. До встречи, милая!»
Короткое сообщение таило целую историю любви и разлуки, предвкушение скорого свидания, признание в чувствах и обещание счастья. Девушка, которую я равнодушно бросила к ногам, насытившись, для кого-то была самой любимой и самой желанной на свете. И сейчас речь шла не только о ее жизни, но и о счастье незнакомого мне мужчины по имени Дмитрий. Заслышав шаги в стороне, я сделала то, чего не делала никогда в жизни: бросилась навстречу позднему прохожему с криком «Помогите, там девушке плохо!» Убедившись, что моей жертве ничего не грозит, я исчезла. Пришла в себя уже у дверей бункера: у меня в руке пиликал чужой мобильный.
«Объявили посадку. Увидимся в Москве! Хочу скорее тебя обнять», - я читала это послание, отправленное не мне, и в груди стоял горький ком. Никто никогда мне такого не напишет. Даже спустя тысячу лет.
Я заперлась в своей комнате и прочитала все сообщения в памяти телефона. Их около тридцати. История любви в эсэмэсках – трогательная и завораживающая. Подсмотренная, украденная, чужая. Меня душили слезы от сознания того, что моя юность ушла, похоронена в склепе вместе с Алексеем, и в моей жизни уже никогда не будет ни щемящей нежности, ни сладостных поцелуев, ни романтических посланий…
Вампирам не пишут эсэмэски. По вампирам не скучают. К вампирам не торопятся из аэропорта и после работы. Люди сами не понимают, какие они счастливые, до тех пор, пока некоторые из них не становятся вампирами. Но тогда уже слишком поздно. Счастье осталось в прошлом. Впереди – вечность и одиночество со вкусом крови на губах.
Уж я-то знаю.
- Бетти, перестань грызть ногти! Тебе же все-таки сто двадцать лет!
Блондинка, сидящая напротив за столом, смерила меня раздраженным взглядом и с досадой отставила бокал с темным содержимым – половина французского бордо 1950-го года, половина сыворотки первой группы. Со стороны мы могли бы показаться подругами – одного возраста, девушки лет двадцати, белокурые, модно одетые. Но прислушаться к нашему разговору – сомнений не останется. Позвольте представить мою мать Лидию – эталон элегантности, женственности и превосходных манер. И я, ее беспутная дочь, Лиза или, как по старинке зовут меня родители на английский лад - Бетти (хотя лично меня это страшно раздражает, и я считаю, что это имя мне не идет).
В отношениях со мной родительница никак не определится. Если бабушка Софья, в соответствии со своим статусом, меня все время воспитывает и поучает, то Лидия так и не решила – мать она мне или подруга. Временами на нее нападает материнский инстинкт, тогда она начинает вести себя как курица-наседка, именует меня дочуркой и требует называть ее мамочкой. К счастью, периоды наседки сменяются периодами закадычной подруги. Тогда Лидия кокетливо стонет, что она не может быть мамой такой взрослой дочери, как я, набивается ко мне в подружки, просит величать ее по имени и ночи напролет зажигает со мной в ночных клубах, которые не так давно, в припадке материнского маразма, называла гнездом разврата, а также заимствует у меня маечки, за вульгарность которых отчитывала накануне. Сейчас был как раз этот период. Но Лидия об этом, похоже, забыла, так как выдала свой нравоучительный пассаж из репертуара наседки.
- Хорошо, мамочка, - смиренно отзываюсь я, зная, что ничто так не выводит родительницу из себя, как подобное обращение в период закадычной подруги.
На удивление, Лидия на мою дерзость никак не реагирует, продолжая нервно постукивать ногтями алого цвета по столу. Я с сожалением смотрю на свои руки – свежий французский маникюр был безнадежно изгрызен. Дурацкая привычка никогда не позволит мне соперничать в совершенстве облика с Лидией. Хорошо хоть в зале по обыкновению царил полумрак, и мой конфуз оставался незаметным для других.
По углам сгущается тьма, тусклые светильники на потолке освещают только длинный прямоугольный дубовый стол, за которым собралась вся наша семья. Стол был точной копией того, что стоял до революции в нашем петербургском особняке. Еще в те годы он давно утратил свои обеденные функции – ведь еда после превращения нам становилась не нужна. Но и тогда, и сейчас, мы по привычке собирались за большим столом, когда нужно было обсудить важные вопросы и принять решение, которое касалось всех.