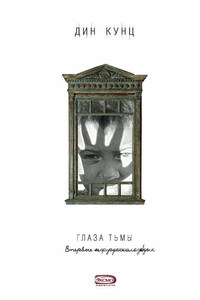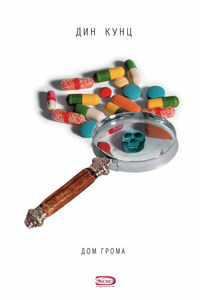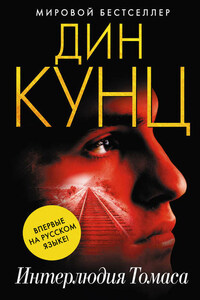Иногда поденка, муха-однодневка, может пролететь над поверхностью пруда, не привлекая внимания тех птиц и летучих мышей, которые на лету схватывают добычу.
При росте в шесть футов и три дюйма и весе в двести десять фунтов, с огромными руками и здоровенными ножищами, Тимоти Кэрриер не мог оставаться таким же незаметным, как летящая над самой поверхностью воды поденка, но пытался.
В тяжелых рабочих сапогах, походкой Джона Уэйна, которую ему подарила природа, он тем не менее сумел войти в таверну «Зажженная лампа» и прошествовать в дальний конец зала, не привлекая к себе внимания. Трое мужчин, сидящих за короткой перекладиной L-образного бара, нацеленной на дверь, не повернулись, чтобы взглянуть на него. Так же, как и пары в двух кабинках.
Сев на самый дальний стул, в тени, которую уже не разгонял свет ближайшей из ламп, висевших над стойкой полированного красного дерева, Тимоти удовлетворенно вздохнул. Для любого, кто переступал порог таверны и оглядывал зал, он бросался в глаза меньше всех.
Если та часть таверны, что находилась у входной двери, могла считаться кабиной локомотива, то дальний конец стойки тянул разве что на камбуз. Так что в понедельник вечером, когда посетителей в баре было меньше, чем в любой другой день недели, тут усаживались только те, кто хотел избежать шумной компании.
Лайм Руни, владелец и по понедельникам единственный бармен заведения, налил из-под крана стакан пива и поставил перед Тимоти.
– Когда-нибудь ты придешь сюда с девушкой, и я умру от шока.
– С чего мне приводить девушку в эту дыру?
– А где еще ты бываешь, кроме этой дыры?
– У меня есть любимый магазин пончиков.
– Да-да, и после того как вы умнете дюжину, ты поведешь ее к самому дорогому ресторану в Ньюпорт-Бич, вы сядете на бордюрный камень и будете наблюдать, как паркуются роскошные автомобили.
Тим маленькими глотками пил пиво, Руни вытирал и без того чистую поверхность стойки.
– Тебе повезло, и ты нашел Мишель, – наконец нарушил паузу Тим. – Таких, как Мишель, больше не делают.
– Мишель двадцать восемь, она на два года моложе нас. Если таких больше не делают, откуда она взялась?
– Это загадка.
– Чтобы стать победителем, нужно поучаствовать в игре.
– Я в игре.
– Бросать кольца на колышек – не такая игра.
– Не волнуйся обо мне. Женщины постоянно стучатся в мою дверь.
– Да, но они ходят парами и хотят рассказать тебе об Иисусе.
– Ничего плохого в этом нет. Они заботятся о моей душе. Тебе говорили, что ты – саркастический сукин сын?
– Ты говорил. Тысячу раз. Слушаю с удовольствием, знаешь ли. Тут приходил один парень, ему сорок, никогда не женился, а теперь ему отрезали яйца.
– Кто отрезал ему яйца?
– Врачи.
– Перепиши для меня их фамилии, – попросил Тим. – Не хочу случайно попасть к одному из них.
– У этого парня обнаружили рак. Дело в том, что теперь он не сможет иметь детей.
– Какой смысл заводить детей? Или ты не видишь, куда катится мир?
Руни напоминал поклонника карате, который, не взяв ни одного урока, не раз и не два пытался расколоть кирпич лицом. Однако его синие глаза светились теплом, а сердце наполняла доброта.
– Об этом и речь. Человеку нужны жена, дети, дом, чтобы держаться за них, даже если мир разваливается у него на глазах.
– Мафусаил прожил девятьсот лет и до самой смерти рожал детей.
– Рожал?
– Именно это они делали в те дни. Рожали[1] детей.
– И что ты собираешься делать? Тянуть с созданием семьи, пока тебе не стукнет шестьсот лет?
– У тебя с Мишель детей нет.
– Мы пытаемся это исправить, – Руни наклонился вперед, едва не ткнулся в лицо Тима своим. – Так что ты сегодня делал, Вышибала?
Тим нахмурился.
– Не называй меня так.
– Так что ты сегодня делал?
– Как обычно. Клал какую-то стену.
– И что будешь делать завтра?
– Класть другую стену.
– Для кого?
– Для того, кто мне платит.
– Я работаю здесь семьдесят часов в неделю, иногда больше, но не для посетителей.
– Посетители твоей таверны это знают.
– Так кто у нас саркастичный сукин сын?
– Ты у нас мастер, а я только учусь.
– Я работаю для Мишель и детей, которые у нас будут. Тебе нужен кто-то, для кого ты работаешь, помимо человека, который тебе платит, кто-то особенный. С кем ты можешь что-то построить, можешь разделить будущее.
– Лайм, у тебя такие красивые глаза.
– Я и Мишель… мы тревожимся о тебе, брат.
Тим сжал губы.
– В одиночку ни у кого ничего не выходило.
Губы Тима двинулись, издав звук поцелуя.
Руни еще ближе наклонился к нему.
– Хочешь меня поцеловать?
– Ты же так заботишься обо мне.
– Я готов развернуться и выставить на стойку голую задницу. Можешь поцеловать ее.
– Нет, благодарю. Не хочу, чтобы мне откусили губы.
– Знаешь, в чем твоя проблема, Вышибала?
– Опять ты за свое.
– Аутофобия.
– Нет. Я не боюсь автомобилей.
– Ты боишься себя. Нет, не так. Ты боишься своего потенциала.
– Из тебя получился бы отличный школьный психолог, – буркнул Тим. – Я думал, здесь подают бесплатные претцели[2]. Где мои претцели?
– Какой-то пьяница наблевал в них. Я почти закончил их оттирать.
– Понял тебя. Но я люблю их сухими.
Руни взял с длинного столика за стойкой вазочку с претцелями, поставил рядом со стаканом Тима.
– У Мишель есть кузина, Шейдра. Очень милая девушка.
– Что это за имя, Шейдра? Неужели больше никого не называют Мэри?
– Я хочу устроить тебе свидание с Шейдрой.
– Бессмысленно. Завтра мне отрезают яйца.
– Положи их в банку с наворачивающейся крышкой и приноси на свидание. Они помогут снять первоначальную неловкость. – И Руни вернулся к другому концу стойки, где трое посетителей вносили свою лепту в оплату обучения в колледже еще не родившихся детей бармена.
Несколько минут Тим убеждал себя, что, кроме пива и претцелей, ему ничего не нужно. Для этого пришлось нарисовать Шейдру слоноподобной дамой с одной бровью и торчащими из носа волосами.
Как обычно, таверна его успокаивала. Для того чтобы снять накопившееся за день напряжение, ему даже не требовалось пиво: хватало только присутствия в этом зале, хотя Тим и не мог объяснить, почему так происходит.
В воздухе стояли запахи свежего пива, сосисок, полировочного воска. Из маленькой кухни тянуло ароматом жарящихся гамбургеров и лука.
Смесь приятных запахов, подсвеченный циферблат настенных часов с логотипом «Бадвайзера», мягкие тени, окутывавшие его, шепот пар в кабинках за его спиной, бессмертный голос Пэтси Клайн[3], льющийся из музыкального автомата, были столь знакомы и близки, что в сравнении с таверной его собственный дом казался чужой страной.
Возможно, таверна нравилась ему больше дома еще и потому, что являла собой островок незыблемости, постоянства. В этом быстро и непрерывно трансформирующемся мире «Зажженная лампа» сопротивлялась мельчайшим переменам.