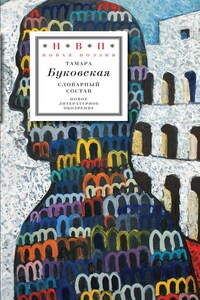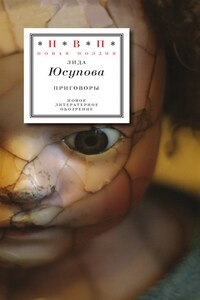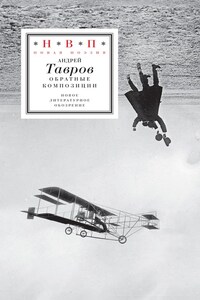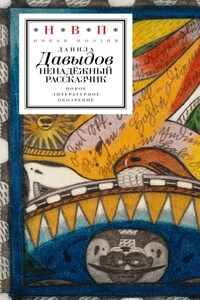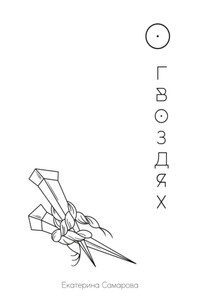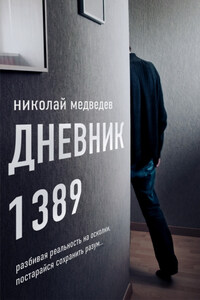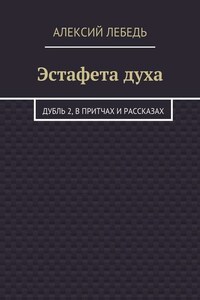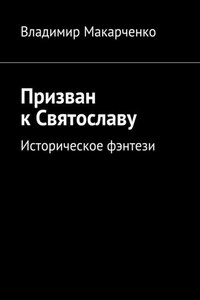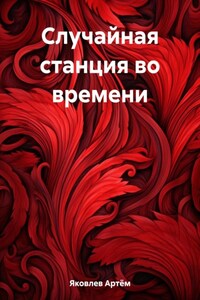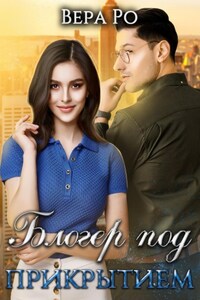Потому я и человек, что вру <…>
…хоть мы и врем,
потому ведь и я тоже вру, да
довремся же наконец и до правды.
Ф. М. Достоевский
Первая «типографская» книга поэта Тамары Буковской (ей предшествовали публикации в сам- и тамиздате, в ряде журналов и альманахов), вышедшая в 1991 году, имела прямое, не уводящее в сторону и своей прямизной озадачивающее, название – «Отчаяние и надежда». Спустя без малого тридцать лет можно сказать: поэт неуклонно продолжает развивать, напрягать то натяжение, которое есть между этими составляющими заглавие первой книги полюсами. Причем всё яснее становится: это не отстраненное или абстрактное комбинирование, выводящее на разные лады «отчаянная надежда», «безнадежное отчаяние» и тому подобное… Всё это и так в стихах Буковской есть. Но привлекают к ним гораздо более значительные обстоятельства, заставляющие вслушиваться в разные тембры ее голоса и ловить себя на том, что многие словесные обозначения оказываются условными, далекими от «существа дела». Именно испытанием слова может быть обозначен путь Тамары Буковской – испытанием на подлинность, органичность, честность.
Ее стихи – монологи (они зачастую очень личные и откровенные не обнаженностью внешней – это как раз продуманный ход, а прорывами, зияниями нескрываемой боли), в которых отразилась личность их автора, способного свободно перемещаться по разным стилистическим и смысловым уровням – от высокого до низкого, от фени до рафинированно культурного. Такая амплитуда возможностей поэта говорит не только о зорком зрении к жизни и чутком слухе к словарю, но и – разумеется, в рамках этого выстраиваемого мира – об отмене иерархий и «штилей»… Так что эти монологи лирические. Но, несмотря на частую их аффектацию и форсирование в них голоса, далеки от театрализованности, довольствующейся внешними эффектами.
Стих Тамары Буковской всегда рассчитан на авторский голос, потому и сартикулирован, прежде чем попасть в область письменности, литературы; он как будто проходит проверку на ощупь речевым аппаратом: слова прощупаны в подвижности, движении, чтобы ухо, уловив нужные соответствия, помогло сдвинуть с места словесный массив и взвинтить речь. Именно речь! Но речь, тяготящаяся нейтральностью и предпочитающая просторечие (вспомним, так называлась книга, составившая свод стихотворений Буковской в новой поэтике1). Речь в обращенном в пространство монологе у Буковской – собственная и несобственная, идущая изнутри и снаружи, словно желающая полноты и единства звучания жизни «здесь и сейчас», в себе и вне себя; эту речь несет и она и не-она, и она и все; недаром так часты в этих стихах-речениях то поэтическое «ты», то обобщенно-личные или инфинитивные конструкции. Речь объединяет страстно, холерически заряженное слово с пространством, то ли ждущим наполнения звуком и смыслом, то ли не ожидающим такового. Это должно происходить «в долгий праздник» «перед молчанием». Когда пространством станет только небо, не задернутое пеленой и не отраженное в воде – там гуляют облака и тучи, летают птицы, туда направлены взгляды поэта и туда зовет он всмотреться своего собеседника.
Стихи Буковской как бы минуют бытование в виде текста, а некоторые создают особую напевность, сближаясь с устным творчеством. Близость к фольклорным истокам позволяет поэту избегать литературности, чуждаться ее, пренебрегать ее правилами и запретами. Очевидно, что поэт ведом потребностью передать стихам живое интонирование, сообщить им модуляции естественного голоса.
Как ни важно для поэта иметь узнаваемый голос, помимо узнаваемости есть еще различимость – среди шумов и гулов, превращающих жизнь в пустую и дурацкую, способных, кажется, заглушить в любом камертон «нравственного императива»… Звуча сквозь шумы и гулы времени, сквозь его протяженность, голос, звук, мысль этих монологов фиксирует, как время – скрещивается, оборачиваясь и непреложной категорией, расставляющей всё в определенном, как будто только ей нужном, порядке, и исторической памятью с травматическим опытом, и сезоном или часом дня, меняющими освещение и ощущение воздуха, и досадными случайностями, так что жизнь странным образом драматизируется… Эта как будто спонтанная инсценировка стоит автору многого, и ее никак нельзя счесть фиглярством, тем более что произносимые здесь монологи в основном предельно откровенны и, одновременно, несут на себе печать осознанной тщеты в самом факте их произнесения – выпускания на свет Божий, пускания по воздуху, на ветер…
Потому что обилие слов и смыслов – знак энтропии. Буковская, зная, что немотой будет увенчано всё, стремится к слову-смыслу – в единственном числе. А многосмысленность, как многозначительность, – свидетельство недодуманности, недозрелости, основание для иронии, для неприятия. «Труд – смысл – слово» – вот, кажется, триада, которой служит Буковская и в своем истовом стремлении к настоящему (не обязательно в значении «сегодняшнее») боится употребить лексему «поэт» (в книге ни разу не встречается, зато многократно – «стихи»), так же как одним из самых частых в книге слов делает производные от «смысл». В этой требовательности к поэзии и поэтам Буковская – за преодоление всего наносного, неорганичного, суетного ради «причастности
к той всамделишной и страстной
схваткой смерти с жизнью в теле
здесь под небом безучастным»
(«инфернальное начало…»)
Именно в результате такой схватки может, по мнению автора этих стихов, родиться, произойти поэзия. Может мелькнуть чудо, дать человеку повод приобщиться, причаститься сокровенного. Только это способно поднять странное и нелепое существо, поставить его на меже бессмысленности и включенности, где борьба будет только обостряться. Заслуга Буковской, что она нигде не позволяет себе такой откровенной метафизики, такой отвлеченности, везде ее слова напоены живой кровью.
Может быть, эта книга – и об изолганности каждого, не обязательно поэта, но в первую очередь, думается: поэта, поэта вообще, не конкретного (но и не абстрактного, а, как говорят в школе, «собирательного»). Буковская говорит о себе – но так, что каждый должен, обязывается принять на свой счет эти невыносимые, но необходимые требования. Требования по последнему счету – требования последнего счета. Их вполне, пожалуй, не вынести, но от них трудно избавиться. (С трудом приходится добавить: горе избавившемуся.) В чем‐то эта книга обладает терапевтическим воздействием: Т. Буковская ведет борьбу на почти свободной от каких‐либо ограничений территории средствами этих свобод, этой неограниченности. Но отстаивает она те жесткие – в том числе и главным образом – моральные законы, которые налагали вето на празднословие, словесный блуд. За них и из‐за них оказывается посрамлен человек в его бессильном одиночестве с самим собой и тем одним (Одним), к кому он всеми словами, мыслями и помыслами, ныне и присно, явно и тайно, в ясном уме и твердой памяти, во всю силу осведомленности и незнания, торжественно и бесстыдно обращается. Потому что он – «живец», с ужасом и отчаянием, но без всякого ощущения риска для себя, тонущий и задыхающийся в «лжитье» – «черной жизни», где всё «занятое… занято».