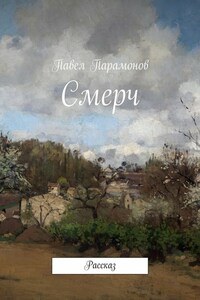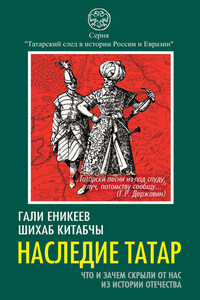Смерч зародился на небе на сшибке двух воздушных армий. Ледяной воздух, вольным разгулом примчавшийся с севера врезался в проморившийся нещадным жаром, пропитанный запахами июльских трав, застоявшийся воздушный пласт. Словно исполинский плуг вдавил небесный пахарь в теплую землю. Стосковавшийся по работе огрел пахарь вожжами коня. Не рассчитав силенок, рванулся конь, ковырнул начало борозды, а потом закрутился на месте не в силах идти дальше. Наплыла прогорело-черная, в полнеба туча, из которой гигантским веретеном закрутился к земле темно-синий, с серыми жилами извивающийся столб. Этот исполинский закрут, обретя самостоятельность, неограниченный ничем – да и какая сила не земле могла бы утихомирить его – уперся трубообразной ногой в землю, содрал с нее пласт зеленой кожи с деревцами и кустарниками, выворотил электрическую опору с проводами, которые затрещали и обсыпались искрами. Все это вознеслось на сотню метров, почти к самой вершине, которая плавно выгибалась, словно высматривала путь.
Подпитавшись первым земным выхватом столб стал расти и распухать, макушка у него, будто голова у бегуна на старте, наклонилась, стала вытягиваться, и медленно-медленно столб двинулся по пустой луговине к ближнему лесочку и дороге, за которыми лежал город…
Пастух у реки, увидев смерч, стал метаться около немногочисленного стада частных коров: пытался согнать их под крутой береговой откос, думая укрыть скотину от стихии, но коровы плотно сомкнулись, тревожно косили мокрыми ядрами глаз на приближающееся неведомое и не подчинялись кнуту пастуха.
Матерно обругав напарника, которого он полчаса назад послал за водкой в сельский магазин, пастух пытался толчками определить коров под берег, но понял, что это бесполезней, чем нагон кнутом.
Уже охолонул щетинистый лик пастуха пробористый холод, уже окатный толчок ветра сошвырнул с мятых, вмиг вспотевших волос залосненную крапистую фуражку и обтянул на худосочном теле немудреную пастуховскую одежонку. Шарахнулась по замутненным «со вчерашнего» мозгам короткая и ясная мысль – вот он конец жизни! И тотчас прихватила тоска по семье и дому, по сварливой, измотанной нищетой и болезнями жене, по сыну, который полгода назад вышел из тюрьмы и, не найдя пристанища в сельской жизни, пытался обосноваться в городе, благо город начинался за железной дорогой, рядом с селом, И уж простил пастух всех их, хоть и не осознал, что это и есть прощение – вспомнить с любовью о нелюбимых…
В полупамяти пастух упал на густотравную землю, впервые остро ощутил молочно-теплый запах луга, захотелось жить, но не так как раньше, а по-другому, по-хорошему, по-белому, ведь начало его жизни было как раз таким: он и учился неплохо, и закончил техникум, и служил в армии достойно, и даже в институт поступил, но где-то к тридцати, вдруг, сломался одним безрассудным короткими временем, и теперь почти до шестидесяти тянул, словно по принуждению какую-то стыдную жизнь, и так привык к этой жизни, что в запитом состоянии говорил о смерти кичливо и вольно, что де он и не боится ее, приди она сейчас, он бы и глазом не моргнул – принял ее, как избавление… А вот подступила и дорога стала жизнь.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru