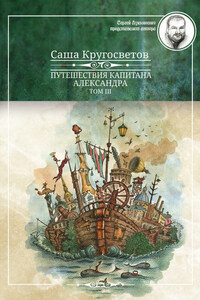Мне больно видеть Твоё лицо. Больно, но так необходимо_сладостно_счастливо, что тяжелеет аорта. Если я чем способен сделать Твою ношу Легче, пусть с плеч на плечо, не молчи: возьмусь, как бы ни горячо.
Спешат, спешат женщины в длинных одеждах. Стекаются под кресты, как необратимый поток, как ливень к канализационным обрывам. Отчего я стою недвижим, и они хлещут меня полами юбок?
Я почитаю Бога, молюсь каждою мыслью отныне и присно, обращаю к Нему все дела рук своих
перекорёженных, помнящих пляс чужих ступней на своей коже, но меня презирают эти смиренные женщины.
Женщины в длинных одеждах.
Говорят, Бог был первым иконописцем: по образу и подобию Своему Он слепил человечество. Что же Он думал, отдав нам Себя в нас и нас в Себе,
ибо сами мы были иконой и трещиной в этой иконе, но
но я не смею сказать о том женщинам, что текут под крестовые своды.
Легко знать, можно понять и трудно поверить: три ступени, вершина которых отдаст тебе Бога, а ты – ты Его и так. Я заношу ногу. Я делаю шаг. Нет ни предлога мне двинуться с места. Мои веки – блаженство. Я есть под сенью райских ветел бездрожен и светел. Не оставив мирских дел, жив телом, преодолел третий предел и прозрел, давно занёс ногу, давно сделал шаг, отчего же так злобны бывают
женщины с платками, как будто в сквозняк?
Несчастные. Наверху поддувает.
Ложные, ложные мании светятся в глазах праведных, там молитвы скаредны, пред иконами пахнет не ладаном: гарью. «Любовь суть прелюбодеяние вне храма нашего» – ревут оглашенные из-за иконостасов раскрашенных, я вырвусь и выскочу, растолкав ко всем благам всевышним
это воцерковившееся
лжемонашество.
Коли так, будет любовь моя – храм, а Ты в нём – Единственный Бог.
Потолок не золотом – углем колотым. Проходя, подними голову. Сердце в полынью пола полое, ладонями горстью – тяжелей олова зачерпни солода и вылей в аорту, чтоб было – полно.
Пение гордыню лелеет; вечереет. В сумерки карие выглянь, видней – марево. Послушней, прилежней, с полыхающим валежником, шагают воинственней, реже, с песней прежней, женщины в длинных одеждах.
Сажею – Твои волосы. Очей разрез – рыбы тонкие. Чело создано для терновника, острого, ломкого. Мне больно и радостно, дрожь в сухожилия, целой жизни не жаль: милями, по суше иль илу на свет на Твой выйду. Жаль, не знают невежды: пожаром не прервать мой молебен, пусть жгут, как жгли прежде, женщины в длинных одеждах.
Кроем торы небеса вскрою: если в этом мире и стоит доверить чувства мольбе,
Одному
Тебе.
Гневная песня застыла на соль, я стою на триадном верху и могу
видеть Твоё лицо,
пламя сотрёт мою боль, и в великом храме единства я рад бы сдержать свой всежизненный выкрик: я Иисусу Христу не молился ни мига,
в аорте Имя Твоё
П_ка.
– Генерал-лейтенант Геренда прибудет в пять, видимо, по делу мятежников…
Дождевая вода взрывала водосточные трубы вторые сутки подряд. Штаб бил рекорды по варке кофе: к путанице в делах Эйхеля и беспорядках на Периферии прибавилась всеобщая мигрень. Давление падало, и головы у штабных гудели, как осиные гнёзда.
– У бакалейщика был?
Только один прапорщик мог похвастаться тем, что его начальник не мается головной болью и не орёт на него, как принято у остальных. Счастливчик положил свёрток из плотной бумаги на край стола, за которым работал подполковник Альфред Телур, статный блондин в очках-половинках и штатском костюме.
– Спасибо, Гарольд, – отозвался он, не отрываясь от жёлтых листочков, подшитых в крохотный блокнот.
– А что пишет Олдерн? – поинтересовался прапорщик, вешая мокрый насквозь плащ на трубы отопления.
– Многое. В основном о жене, немного про быт, окрестности, соседей.
Мужчину ответ явно удивил. Боком заглядывая за пресс-папье полковника, заслоняющее тонкий блокнот, он протянул:
– Быть не может, чтобы старина Олди ради этого искал столько почтовых голубей.
– Это не он, – отвлечённо поправил Телур. – Его жена.
– Жена? Наверняка вдовая, выйти за отставного майора, у которого из орденов только плешь и сверкает…
Альфред вздохнул, распечатал пакет из бакалеи и достал оттуда плотный кожаный планшетник, немедленно укладывая в него жёлтые листочки.
– Сплетник ты, Гарольд. Заведёшь жену, так она тебя не переболтает.
Прапорщик хохотнул. Повезло ему с начальником: Альфред не гнался за чинами, равно относился и к сержантам, и к генералам, наедине с ним можно было поговорить о личном, получить мудрый совет. Несмотря на юность, – Альфреду не было и тридцати, – в ГенШтабе у него было множество завистников, невольно уважавших его. Подполковник Телур занимался делами, которые за безнадёжностью сдавали в архив. Генерал армии лично знал его по довоенным конфликтам, когда рядовой несколько раз предотвращал покушения на тогдашнего генерал-летейнанта Корога. Лично от него Альфред получил право на ношение штатского платья, почти полную самостоятельность действий и множество других, менее заметных полномочий – конечно, штабным служакам было, чему завидовать. Иногда сам Гарольд, да и Олдерн, давний их сослуживец, ворчали на свободный покрой плаща и брюк блондина, затягиваясь строевыми поясами.