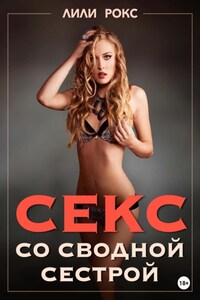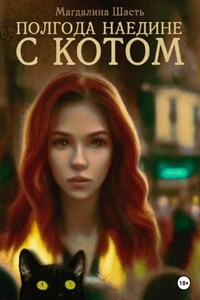Говорят, что у каждого человека есть свой Ангел. Где-то, в далёких возвышенных далях, которых мы не помним, всякой живой душе назначают личного Хранителя, чтобы, спустившись на Землю, человек имел защиту, своеобразный буфер между самим собой и окружающими его существами и стихиями. Говорят также, что мы не можем видеть своих Ангелов. Они незримо сопровождают нас всю нашу жизнь, и показываются людям лишь в исключительных обстоятельствах. Говорят многие и многое. Только вот проверить всё, что говорят, никак невозможно. Именно поэтому человек, как существо разумное и думающее, должен всё, что слышит, пропускать через себя, чтобы почувствовать – правда это, истина? Или неправда? А может – правда, но исковерканная, как слово в игре «испорченный телефон», едва различимая, выряженная в чужие дешёвые одежды…
Мой личный Ангел поджидал меня в душистых кустах розовой спиреи, ею всё было усажено в детском саду, абсолютно всё. Одуряющий запах пушистых соцветий облаком стоял в жарком полуденном воздухе, смешиваясь с аппетитной волной обеденных кухонных ароматов. Вдоволь наплескавшись в уличном мелком бассейне, я лениво висела на качелях, дожидаясь мамы. В те дни, когда она работала в первую смену, меня со всеми вместе спать не укладывали, и отпускали восвояси бродить, где вздумается, с непременным соблюдением строжайшего табу – за территорию ни ногой! Да я и не собиралась…
Из приятной полудрёмы к действительности меня вернул чей-то настойчивый слащавый голос:
– Девочка! А, девочка! Хочешь конфетку?
Потного лысого мужика с бегающими скользкими глазками отделял от меня лишь ненадёжный детсадовский забор – дырки между прутьями редкие, кое-где погнуты, любой пролезет на раз-два. Страх сдавил мне горло своей мохнатой невидимой ручищей, и в голове понеслись жуткие мысли: в городе орудует маньяк, это всем известно. Пропадают девочки, уже несколько за пару месяцев. Совсем недавно в пригородном лесочке обнаружили страшную находку: в мусорных мешках прикопанные части тела одной из пропавших (господи, даже представить страшно), её фамилию писали во всех газетах, повторяли по радио, на местном телеканале; в школах и садиках осторожненько ориентировали детей, чтобы не доверялись незнакомцам. И вот – на тебе! Прямо напротив стоит настоящий маньяк. Что делать?! Непростой вопрос, если тебе около шести лет от роду. Пока всё это вихрем проносилось в моём скукоженном от ужаса мозгу, из ближайшего куста бойко вылезло нечто кудлатое, бородатое, и бодреньким галопом поскакало в сторону потенциального маньяка, издавая утробные хрипящие звуки. Кажется, я зажмурилась на миг, пытаясь стряхнуть с себя наваждение, не дающее двигаться и бежать, а когда глаза подняла – за забором никого уже не было. Медленно обвела я взглядом качели, веранду, песочницу – всё было чисто. Никакого присутствия посторонних. Выдохнув, сделала шаг в сторону, и едва не свалилась прямо на большую каштановую собаку, привалившуюся своим мохнатым боком к моей голой ноге.
– Ай! Ты что, я же чуть на тебя не упала!
Собака подняла вверх радостную морду и улыбнулась мне. До этого момента я никогда в жизни не видела, как улыбаются собаки. Человек, с собачьей улыбкой незнакомый, вполне может принять её за оскал – широко разинутая пасть, передние зубы обнажаются, кожа на челюстях стягивается, открывая острящие белоснежные клыки. Но меня это всё нисколечко не испугало. Невозможно испугаться, когда видишь такие нежные, честные и добрые глаза! Присев на корточки, я оказалась с собакой лицом к лицу.
Ты хороший пёс…хороший…спасибо тебе!
– Ррруф! Вуф! – сказал пёс, радуясь, что я поняла его правильно, и лизнул меня прямо в щёку своим мягким липким языком.
– Подожди, я тебе сейчас котлетку принесу! Котлетку! Сбегаю в группу и принесу! Подожди здесь, ладно?
– Ладно, конечно, подожду, – ответил мой спаситель, навострив свои висячие уши, красиво обрамлённые шерстяной бахромой.
– Вот! На, держи! – запыхавшись, выдохнула я, прибежав обратно через минутку, – Ещё хлеб…будешь хлеб?
– Буду! Всё буду! Спасибо тебе!
– Это тебе спасибо, что прогнал того ужасного мужика.
– Он плохой человек, плохо пахнет.
– Да, я тоже сразу поняла, что плохой…А как тебя зовут?
– Никак…я ничей пёс, у меня нет имени.
– Как жалко… давай, ты будешь моим пёсиком? Хочешь?!
– Спрашиваешь…конечно хочу… только тебе не разрешат меня взять, – вздохнул барбос, дожёвывая кусок.
– Конечно разрешат! Что за глупости…я расскажу им, как ты меня спас. Ты такой храбрый! Давай я тебя поглажу, ты хороший пёс…хороший…
– Ника…Ника! Идём, идём домой! Боже мой, что это за собака, откуда она тут? Грязная какая, не смей её трогать! Сейчас скажу сторожу, чтобы прогнали…
– Мама! Не прогоняйте его, он же меня спас! Давай его себе возьмём?! Пожалуйста, ну пожалуйста, мама…
– Глупости, он наверняка лишаястый…облезлый какой, кошмар. Пойдём, пойдём! Пойдём, говорю! Ну что ты ревёшь?! Прекрати немедленно реветь, пошли, я сказала!
Упираясь и захлёбываясь слезами, я прокричала, выдёргиваясь из маминой руки:
– Пёсик! Жди меня здесь, хорошо? Жди-и! Завтра принесу тебе много вкусного-о!!
Но и завтра, и послезавтра, ни под кустом, ни вообще где-либо поблизости от детского сада бородатого пса не оказалось. Я долго мучилась чувством ужасной вины, проклиная свою глупую доверчивость – пёс конечно же был прав: какой взрослый человек в здравом уме возьмёт к себе домой старого бездомного бродягу, всю жизнь свою мыкающегося по дворам и помойкам? Для такого безумного поступка нужно в душе оставаться ребёнком, или хотя бы помнить – каково это, быть ребёнком – воспринимать этот мир без предрассудков, без абсурдных ограничений, придуманных кем-то обиженным, лишённым любви, кем-то, кто давно уж не может отличить правду от лжи. Всего этого я, конечно же, в шестилетнем возрасте ни понять, не сформулировать не могла, но чувствовала отлично. И к собственной вине добавилась обида – тяжёлое, горькое ощущение. Из семян обиды, брошенных неосторожной рукой, постепенно вырастает недоверие – цепкий, ползучий сорняк, очень быстро пускающий свои глубокие корни в душах людей. Выкорчевать его почти невозможно. Примерно с тех пор я стала понимать, что взрослые чаще всего детей просто не слышат. Причин этому я найти не могла, и ещё больше обижалась.
«Мы ведь разговариваем на одном языке», – думала я, – «Так почему же то, что говорят дети, всегда неважно? Почему нас не хотят услышать и понять? Почему наши желания не важны, а наше мнение никогда не принимается во внимание? Как выходит, что в семье, где все друг друга любят и заботятся друг о друге, голос ребёнка не имеет никакого веса? Это ужасно несправедливо!»