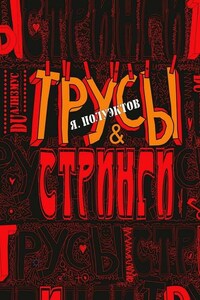Это был один из тех серых, промозглых лондонских дней, когда сливаются воедино небо, тротуар и мокрые здания. Давненько я не видал такой погоды…
Я только что отобедал со старинным другом, Майклом Стилом, в подземном переходе у Чаринг-Кросс, в баре «У Портера», в который мы хаживали с шестнадцати лет, когда впервые открыли для себя его укромное расположение и немногословность владельца. Сейчас, разумеется, оба предпочли бы что-то менее сырое и темное (шикарное маленькое бистро на Сент-Мартинс-лейн, что специализируется на луарских винах, par example[1]), но ностальгия – суровая штука. Ни один из нас не решился бы об этом даже заикнуться.
Обычно, расставаясь с Майклом, я шагал уверенно, ощущая, как от сознания превосходства у меня распирает в паху. Его жизнь складывалась из претензий жены, заботы о сыновьях-близняшках и хлопот юридической практики в Бромли, и потому он слушал байки о моих приключениях – пьяных ночах в Сохо и молоденьких подружках – с завистью. «И сколько ей? – спрашивал он, кромсая яйцо по-шотландски. – Двадцать четыре? Ничего себе!» Майкл не был заядлым читателем и, в силу сочетания преданности с невежеством, все еще считал меня «человеком, добившимся грандиозного успеха на литературном поприще». Ему не приходило в голову, что второсортного бестселлера двадцатилетней давности маловато, чтобы бесконечно поддерживать репутацию. Для Майкла я оставался, цитирую, «звездой литературного Лондона». Когда он, неизменно оправдывая мои ожидания, оплачивал счет, в этом жесте сквозила не столько снисходительность, сколько почитание таланта. И если для поддержания статус-кво требовалось определенное количество взаимных хитростей, цена невелика. Уверен, не одна дружба построена на лжи.
В тот день, однако, поднимаясь на поверхность, я вновь осознал свою никчемность. Как ни скрывай, истина заключалась в том, что жизнь в последнее время пошла под откос. Мой последний роман только что отклонили, а Полли, та самая пигалица двадцати четырех лет, бросила меня ради какого-то небритого политического блогера-молокососа. И что самое скверное, как раз в то утро я обнаружил, что меня выселяют из квартиры в Блумсбери, в которой я бесплатно обитал и которую называл домом последние шесть лет. Короче говоря, сорок два года, на мели и с унизительной перспективой переезда к матери в Ист-Шин.
Вдобавок, как я уже сказал, шел дождь.
Уворачиваясь от зонтов, я устало тащился по улице Вильгельма IV в сторону Трафальгарской площади. Около почты тротуар перегородила толпа иностранных студентов в неоновых кроссовках и с рюкзаками. Меня вытолкнуло в сточную канаву. Нога угодила в лужу, такси обдало брызгами штанину вельветовых брюк. Я чертыхнулся и поковылял через дорогу, лавируя между ждущими пассажиров машинами, свернул на Сент-Мартинс-лейн и через Сесил-корт вышел на Чаринг-Кросс-роуд. Мир сотрясался от дорожного движения и инфернального хаоса стройки Кроссрейл. С небес низвергалась вода. Я только успел проскочить станцию метро, и вереница туристов с сумками снова вытеснила меня с дороги и впечатала в витрину магазина.
Прижавшись к стеклу, я переждал, пока они пройдут, и закурил. Я стоял около «Хадсон энд компани», магазина подержанных книг по фотографии и кино. Имелся у них в глубине и маленький раздел беллетристики, откуда, если память мне не изменяет, я однажды «позаимствовал» раннее издание «Счастливчика Джима». (Не самое первое, а то, с оранжевой эмблемой «Пинджин букс» и иллюстрацией Николаса Бентли на обложке. Классное!)
Сейчас для магазина настали не лучшие времена – почти все верхние полки были неуютно пустыми.
И тут я заметил эту скучающую продавщицу.
Она глазела в окно, посасывая прядь длинных рыжих волос и излучая такую чувственность, что я ощущал покалывание в кончиках пальцев.
Я затушил сигарету, убрал ее в карман пиджака и толкнул дверь.
Выгляжу я недурно (а тогда, до всего этого, был и вовсе молодцом). Лицо того типа, что, как говорят, нравится женщинам: голубые глаза с прищуром, высокие скулы и полные губы. Я уделял внешности немало внимания, хотя тем самым добивался впечатления, что все как раз наоборот. Порой, бреясь, разглядывал свои точеные симметричные щеки, аккуратные щетинки и легкую горбинку патрицианского носа. Интерес к интеллектуальным упражнениям, на мой взгляд, не оправдывал наплевательского отношения к телу. У меня широкая грудь. Даже теперь я изо всех сил держусь в форме – пригодились упражнения, которые я подсмотрел в первый бесплатный месяц занятий в спортзале. Кроме того, я мастерски пользовался своей внешностью: робкая самокритичная улыбка, дозированный зрительный контакт, творческий беспорядок на светловолосой голове…
Когда я вошел, девица едва взглянула в мою сторону. Длинный топ с геометрическим рисунком, легинсы, грубые байкерские ботинки, три гвоздика в ухе и обильный макияж. Сбоку на шее – тату в виде бабочки.
Я наклонил голову и тряхнул шевелюрой.
– Черт!.. Ну и погодка!
Она качнулась на широких каблуках, села на металлический табурет и, бросив взгляд в мою сторону, выпустила изо рта прядь волос.
Я добавил громче:
– Конечно, Рёскин говорил, что плохой погоды не бывает – только у хорошей бывают разные обличия…
Скучающий рот едва заметно изогнулся в подобии улыбки.
Я приподнял мокрый ворот.
– Скажите это моему портному!
Улыбка растаяла. Портному? Ну да, откуда ей знать, что я шучу и пальто куплено по дешевке в благотворительном магазине?