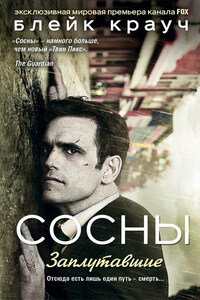Он очнулся, лежа на спине, под солнечным светом, бьющим в лицо, под шум воды, бегущей где-то по соседству. Оптический нерв пронзала блистательная боль, а в основании черепа неустанно, но пока безболезненно пульсировали отдаленные раскаты грома подступающей мигрени. Перекатившись на бок, он оттолкнулся, перейдя в сидячее положение, спрятав голову между коленей. Ощутил неустойчивость мира задолго до того, как распахнул глаза, словно его ось сорвалась на дребезг. При первом вдохе почувствовал, будто кто-то вгоняет стальной клин между верхними ребрами левого бока, но, со стоном продравшись сквозь боль, с усилием открыл глаза. Левый глаз, должно быть, совсем заплыл, потому что смотрел как через щелку.
Зеленейшая трава, какую он только видел – целый лес длинных, мягких былинок, – сбегала к берегу. Чистая, стремительная вода бурлила среди валунов, торчащих из потока. За рекой – вознесшийся на тысячу футов утес. На уступах – растущие кучками сосны, воздух напоен их ароматом и свежестью проточной воды.
На нем черные брюки и черная куртка с оксфордской рубашкой под ней; белый хлопок забрызган кровью. Под воротником болтается черный галстук с почти распустившимся узлом.
При первой попытке встать колени подломились, и он плюхнулся обратно – достаточно жестко, чтобы послать через грудную клетку вибрации жгучей боли. Вторая попытка увенчалась успехом, и он обнаружил себя шатко, но стоящим на земле, вихляющейся под ногами, как палуба корабля. Медленно обернулся, шаркая ногами и расставив их пошире для равновесия.
Спиной к реке, он стоял на краю открытого поля. В дальнем конце под перекальным светом полуденного солнца блестели металлические поверхности детских качелей и горок.
Вокруг ни души.
За парком он углядел викторианские дома, а еще дальше – здания главной улицы. Городишко от силы с милю в поперечнике угнездился посреди каменного амфитеатра, окруженный скальными стенами, возносящимися на несколько сотен футов с каждой стороны, состоящими из красных слоистых пород. В высочайших, погруженных в тень закоулках горы сохранился снег, но здесь, в долине, тепло, на кобальтово-синем небе над головой ни облачка.
Проверил карманы брюк, потом – своего однобортного пиджака.
Ни бумажника. Ни зажима для денег. Ни документов. Ни ключей. Ни телефона.
Только маленький швейцарский армейский ножик в одном из внутренних карманов.
* * *
Пока добрался до другого края парка, у него прибавилось и бодрости, и недоумения, а пульсация в затылочной части позвоночника уже утратила болезненность.
Он знал шесть вещей:
Имя нынешнего президента.
Как выглядит лицо матери, хотя и не мог припомнить ни ее имени, ни даже звучания ее голоса.
Что он умеет играть на фортепиано.
И водить вертолет.
Что ему тридцать семь лет.
И что ему нужно в больницу.
Помимо этих фактов, весь мир вообще и это место в частности были настолько же непостижимы для него, как именослов на неизвестном языке. Он чувствовал, что истина маячит где-то на периферии сознания, но вне пределов досягаемости.
Он шагал по тихой улице жилого района, внимательно приглядываясь к каждому автомобилю по пути. Не принадлежит ли один из них ему?
Дома, обращенные фасадами друг к другу, выглядели девственно чистыми – свежевыкрашенные, с безупречными квадратиками яркой травы, обнесенные штакетными заборчиками, с фамилиями домовладельцев, выписанными белыми печатными буквами сбоку на черных почтовых ящиках у каждого. Почти в каждом заднем дворе виднелся трепетный садик, буйствующий не только цветами, но и овощами, и фруктами.
Все цвета так чисты и насыщенны.
Ходьба давалась с трудом, и на полпути через второй квартал он скривился, совсем запыхавшись; боль в левом боку заставляла то и дело останавливаться. Сняв пиджак, выправил рубашку из брюк, расстегнул и распахнул ее. Выглядело даже хуже, чем ощущалось, – вдоль всего левого бока расплылся темно-лиловый синяк, опоясанный пограничной полосой чахоточной желтизны.
Что-то его ударило. Крепко.
Легонько провел ладонью по поверхности черепа. Головная боль прочно угнездилась там, становясь отчетливее с каждой минутой, но пальцы не нащупали никаких признаков серьезной травмы, не считая болезненности с левой стороны.
Застегнув рубашку, снова заправил ее в брюки и двинулся дальше по улице.
Вывод просто-таки вопил: его постиг какой-то несчастный случай.
Может, автомобильная катастрофа. Может, падение. Может, на него напали – тогда ясно, почему при нем нет бумажника.
Надо первым делом заявиться в полицию.
Вот только…
Что, если он переступил черту? Совершил преступление?
Возможно ли такое?
Может, следует выждать, поглядеть, не забрезжит ли что-нибудь в мозгу.
Хотя городок не казался ему даже отдаленно знакомым, он поймал себя на том, что, ковыляя по улице, читает фамилии на всех почтовых ящиках подряд. Подсознательный рефлекс? Потому что где-то в недрах памяти он знает, что на одном из этих почтовых ящиков должна быть напечатана сбоку его фамилия? И что стоит ее увидеть, как все встанет на свои места?
В нескольких кварталах впереди над соснами возносились здания центра города, и он расслышал – впервые за сегодня – шум движущихся автомобилей, далекие голоса, гул систем вентиляции.
Вдруг он оцепенел посреди улицы, непроизвольно вытянув шею.
Воззрившись на почтовый ящик, принадлежащий красно-зеленому двухэтажному «викторианцу».
Воззрившись на фамилию сбоку.
Пульс начал учащаться, хоть он и не понимал, почему.
МАККЕНЗИ.
«Маккензи».
Фамилия не говорила ему ровным счетом ничего.
«Мак…»
Зато первый слог как раз говорил. А вернее, вызвал некий эмоциональный отклик.
«Мак. Мак».
Он что, Мак? Это его имя?
«Меня зовут Мак. Привет, я Мак, рад познакомиться».
Нет.
Привкус от имени на языке остался какой-то неестественный. Оно не воспринималось как принадлежащее ему. А если честно, так и вовсе вызывало неприязнь, потому что навевало…
Страх.
Как странно. По какой-то причине это слово внушило страх.
Может, увечья ему нанес некто по имени Мак?
Он двинулся дальше. Еще через три квартала вышел на угол Главной улицы[1] и Шестой, где уселся на скамейку в тени и сделал медленный, осторожный вдох. Поглядел вверх и вниз по улице, отчаянно отыскивая взглядом что-нибудь знакомое.