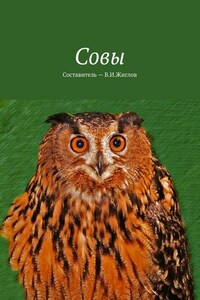А город N кровоточит простуженными мостовыми
И тушит теплый свет в окнах.
Как так глупый на твоих скулах золотом плачет
Солнечный воздух, пульсирует под кожей желание
Вечно возвращаться домой под вечер —
В руках вся нежность, что за день наворовала, хромая
Уставшими взглядами между чужих переносиц,
И пирог с корицей, как ты любишь.
Можешь задохнуться развернутым над головой небом,
Я не стану мешать,
Просто стой и слушай, как в соседнем подъезде
Рыдает, сидя под дверью, голубоглазая принцесса,
На ней платье из дорогой парчи и нежность, зашитая
На теле крепким узлом.
Город N – такой холодный и вечно пьяный —
Горечью своих многоликих прохожих
На наших щеках клеймом выжигает знак бесконечной
Любви засыпать на мокром асфальте чумазыми голубями
Того святого апреля, когда стало понятно и тебе, и мне,
Что город N не щадит даже самых смелых и спелых.
Но пулеметным залпом влажно поцелуй в висок на прощанье,
Я помню твой перрон и последний вагон
В облаке сигаретного дыма,
Уходи, родной, на выходе донеся до города N сожаление
И просьбу хранить
Меня бережно между своих хрупких стен.
Ты знаешь, тут поменялись лица и номера телефонов,
В остальном все также болит и обветрены губы.
Мне бы сейчас дождливый Октябрь и мои потертые джинсы —
Они всегда пахли мятой и простынями твоей кровати,
Так стремительно хотелось, чтобы вырвало к черту из легких
Этот кусок мертвой жизни – извечный никотин соседей,
Мокрый кафель и так и недопитый тобой кофе.
Просто позволь мне тихо уснуть на изгибах твоего завядшего плеча
И однажды случайно проснуться в другом городе N.
Я хочу рассказать вам одну историю. Она приключилась со мной на стыке двух времен моей недолгой пока еще жизни: детства и взросления (которое я и приобрела так стремительно и грубо благодаря этой истории).
Эта история и есть моя жизнь. А точнее, один из ее непродолжительных, но, пожалуй, самых судьбоносных и важных отрезков.
История глубоких воспоминаний и привязанностей, самой честной веры и самой искренней любви. История одной смерти и одного чуда. История величайшей для меня потери и самого грандиозного моего приобретения. Одного человека, одной судьбы и целого мира, коим для меня являлась жизнь этого человека.
Это до дрожи болезненная и до невозможности откровенная для меня история.
Это – моя история.
Если бы меня однажды спросили, было ли начало этой истории ознаменовано чем-то примечательным, то я бы не задумываясь ответила – нет.
Болезненным рубцом в памяти осталась лишь необъяснимо тревожная прохлада, словно протяжной нотой зависшая в воздухе. Судьбоносный день этот, однако, не отличался излишней яркостью событий, и кроме робкой его прохлады, не было в нем решительно ничего необыкновенного, разве что особенно стремительно, казалось, клонится он к закату. Днем солнце стояло высоко, и пыльный запах апреля сладкой патокой разливался по запруженным переулкам. В темной глубине спящих окон просыпались и пускались в пляс пузатые отражения городских огней. Хрупким мотыльком в дрожащих ладонях площадей забилась вечерняя феерия весенней Москвы.
Я сидела на теплом паркете своей шестнадцатиметровой комнаты и перебирала лохматых кукол. Их пластиковые лица не выражали ничего, кроме надуманного восторга. И это именно то, что всегда делало их неживыми. Невозможность боли. Отсутствие перспективы чувствовать и содрогаться от беззвучного распада на атомы. Материя смертна, она рассыпается пеплом. Никто никогда не скажет, но, пожалуй, каждая минута нашего бытия определяется этим – осознанием разрушения. Плавного настолько, что оно почти неосязаемо, однако неотвратимо и оттого притягательно. Безмятежные лица кукол всегда пугали меня постоянством бессмертия. Там, где не было смерти, никогда не было и не могло быть красоты. Упорядоченный безвоздушный хаос безлик. Загляни в него, и ты увидишь то, что было до начала жизни – прозрачный вакуум в океане пустоты.
Рваные шорохи шагов вырвали меня из пучины размышлений. Кто-то торопливо провернул дверную ручку, и дверь со свойственным ей звуком отворилась. В комнату вошла ликующая мама. Она бросила на меня лукавый взгляд и, слегка прищурив глаза, спросила:
– Хочешь съездить к бабушке? Она ждет. Говорит, что скучает по тебе. Поехали, а?
– Да, конечно, я была бы безумно рада сейчас ее увидеть.
– Тогда собирайся. Время бежит быстро, а дел у нас слишком много.
Не размышляя ни мгновения, я бросилась натягивать на себя потертые джинсы-«вранглеры». Заметалась по пыльной комнате в поисках старенькой водолазки. Наверное, трудно сразу понять мое рвение, но я попытаюсь объяснить.
Дело в том, что большую половину своей жизни я провела бок о бок с бабушкой и дедушкой. Благодаря стечению жизненных обстоятельств долгое время мы были вынуждены делить общее пространство. Это не означало, что я не жила с родителями, нет. Просто в определенный период мы тремя семьями располагались под одной крышей, можно сказать, ютились в шестидесятиметровой бабушкиной квартирке. Но на самом деле вовсе не ютились, а именно жили вместе, радовались каждому дню, безропотно и с достоинством разделяя абсолютно все, что с нами случалось. И только год назад нам наконец выпала возможность разъехаться по отдельный квартирам.
Мы. Но кто такие мы? Мы – это я, мои мама, папа, бабушка, дедушка, мамина родная сестра, ее муж и их сын, мой горячо любимый брат.
Конечно же, первое время мне было достаточно нелегко свыкнуться с ледяным превосходством комфорта, однако все же я была безумно счастлива, ведь отныне имела собственную комнату, островок личного пространства. Я наконец могла спокойно отдыхать в любую удобную для меня минутку либо заниматься своими делами, в мерной тишине вслушиваясь в далекие отзвуки гудящих за окном проспектов. Я могла высыпаться. Посреди ночи меня более не беспокоил прерывистый шелест чьих-то шагов, не будил громко работающий телевизор и не убаюкивал тихий шепот бабушкиных молитв, монотонно раскачивающийся в пляске огня свечи на темных стенах комнаты.
Всю нашу жизнь составляло бесконечное копошение на кухне, реже – в ванной, затем это были выдвижения каждого члена семьи на работу или учебу, после – торжественное возвращение домой и совместный просмотр какой-нибудь телепередачи. Хотя, конечно же, вкусы сильно разнились, и это почти всегда вызывало своего рода маленькую войну между теми или иными членами семьи. В заключение дня – ужин и крайне сомнительный отдых.
Но вернемся в тот апрельский вечер. Журчащий голубиный рой под окном перешептывается шуршанием крыльев, заставляя воздух вокруг трепетать и маяться. Я одеваюсь и, резво перепрыгивая по ступенькам подъездной лестницы, выбираюсь на улицу, чтобы подождать маму на скамейке во дворе. Ветер гнет упругие ветви деревьев. В окнах домов разгорается стремительно растущее зарево закатных отблесков. Вскоре переулки утонут в стремительном вальсе огней и звуков. Вот и мама выходит из подъезда, жестом просит меня поторопиться. Мы наконец отправляемся в гости к бабушке.