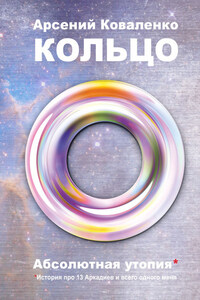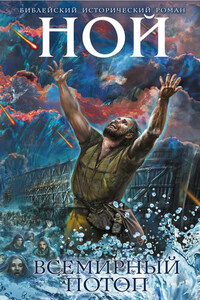В двенадцать часов последнего дня старого года Слава Богатуров думал о девяноста двух рублях, имевшихся у него в качестве единственного капитала накануне встречи Нового года, и мысли молодого человека никак не представлялось возможным отнести к категории приятных. Единственным светлым проблеском в предновогоднем настроении Славы можно было считать естественное чувство удовлетворения, появившееся полчаса назад благодаря удачной сдаче последнего экзамена зимней сессии. Но радостный блеск в глазах лучшего студента курса Богатурова стремительно тускнел с каждой минутой, неумолимо приближавшей уходивший в историческое небытие год к роковому мгновению – нулю часам, к полному нулю и дефициту настоящего времени для Старого Года.
Из-за фактического отсутствия денег, перспектива достойно встретить самый большой праздник в году Славе совершенно не светила. Девяносто два рубля никак не могли сотворить чуда, и поэтому, немного помаявшись возле дверей аудитории, где для остальных одногруппников продолжался сданный уже им экзамен, он спустился в столовую и мучимый острым сосущим чувством голода истратил почти всю сумму на стакан чая с сахаром и три довольно черствых беляша.
Дожевывая последний кусок, Слава тоскливо смотрел сквозь стеклянную стену столовой, украшенной налепленными на нее аляповатыми снежинками, вырезанными из разноцветной бумаги. За стеной этой тихо падал с неба крупный нежно-белый пушистый снег, и Богатуров неожиданно поймал себя на мысли, что невольно начал завидовать хорошо одетым, нагруженным авоськами с продуктами людям, шагавшим по разным направлениям мимо университетской столовой. Ни одной унылой физиономии не мелькнуло перед тоскливым взглядом Славы, и он поспешил отвернуться от стеклянной стены, уткнувшись в освободившуюся от беляшей фарфоровую тарелку, где осталось несколько неаппетитных крошек и пара пятен канцерогенного жира.
Всеобъемлющая трансцендентальная тоска разлилась по необъятным далям широкой Славиной души, словно закатная заря по вечернему небу: со страшным в своей полной обнаженности от наслоений сладкой самоуспокоительной лжи откровением, немедленно перешедшим в мучительную боль, ему представился милый образ сказочной властительницы его больных снов. Неимоверным усилием воли Слава заставил себя не думать о несуществующем предмете своей несчастной фантастической любви и сосредоточиться на вполне реальном настоящем, отдающим, правда, если положить руку на сердце, тоже откровенной сумасшедшинкой и чертовщиной в связи со скорым предстоящим «экспериментом» на кафедре у Боброва.
За соседним столиком о чем-то таинственно и оживленно шушукались три симпатичные девчонки – первокурсницы факультета германо-романской филологии, гремевшего по всему университету половой и морально-волевой распущенностью своих студенток. Умный Слава с некоторой надеждой начал магнетизировать романо-германских филологинь глазами, но те лениво скользнув из под густо накрашенных ресниц оценивающими блудливыми взглядами по видавшему виды Славиному пиджаку, недорогому свитерку под пиджаком и потрескавшимся ботинкам, сиротливо выглядывавшим из под стола, больше не обращали на него внимания, целиком углубившись в непрекращавшееся таинственное шушуканье. «У-у, балаболки!», – без особой злобы, но с сильной досадой подумал Слава и принялся разглядывать очередь студентов, выстроившуюся вдоль раздаточных прилавков, надеясь увидеть там кого-нибудь из хороших знакомых.
Знакомых оказалось много – как хороших, так и плохих, но все они страдали общим, объединяющим их в единый несчастный коллектив, недугом – хроническим финансовым запором. Во всяком случае, именно так, не без толики желчи, подумал о них Вячеслав Богатуров и в порыве внезапно прилетевшего негодования на «всех и на вся» подскочил со стула и стремительно пошел прочь из столовой, кожей спины под засалившимся пиджаком и выцветшим свитером остро чувствуя направленные ему вслед насмешливые взгляды трех беспутных, а может быть даже и – распутных, студенток факультета романо-германской филологии.
Медленно поднимаясь по лестнице и мрачно глядя на потрескавшиеся носки ботинок, Богатуров постепенно включал всю мощь могучего интеллекта на решение единственной и первостепенной задачи: где можно срочно достать денег?!?! Интеллект, разумеется, работал вхолостую, и Слава, не глядя по сторонам, с лицом, мрачным и сосредоточенным, зомбированной походкой продолжал подниматься по университетским лестницам до тех пор, пока на площадке между третьим и четвертым этажами, его не хлопнул по плечу одногруппник, Андрюха Малышев – тридцатилетний бородатый мужик родом из далекой лесной деревни, бывший рабфаковец, каким-то чудом сумевший продержаться на философском факультете три с половиной года, с истинно обезьяньей ловкостью, словно с ветки на ветки, совершая головокружительные прыжки с предыдущей сессии на последующую – благополучно перелетая, тем самым, через пропасть, казалось бы, неминуемого отчисления и каждые полгода вызывая искреннее изумление по этому поводу у преподавателей и одногруппников. Видимо, Андрюху в самых сложных экзаменационных пертурбациях всегда выручала широкая подкупающая улыбка и – добрый характер типичного русского крестьянина, прущий наружу буквально с каждой, неуклюже, но добротно и основательно, построенной фразой ответа-монолога на вопросы, поставленные в экзаменационном билете. Студенты, особенно те, что жили с ним в одном общежитском блоке (в это число входил и Вячеслав Богатуров), любили неизменно денежного, щедрого, хлебосольного Андрюху, чьи богатые деревенские родственники регулярно снабжали его салом, мороженым мясом, домашним сыром, копченой рыбой, банками с вареньем и четвертными бутылями, до самого горлышка наполненными различными ягодными настойками. И в блоке, где жил бывший рабфаковец Малышев, почти никогда не поселялись хроническое недоедание и упадочное настроение.
Шесть дней назад Андрюху увезли на «скорой помощи» в первую муниципальную больницу города с подозрением на «сотрясение головного мозга средней тяжести»(где-то в какой-то рабочей «общаге» на чьем-то дне рождения кто-то ударил Андрюху пустой бутылкой из под портвейна по голове, и далее, в ходе завязавшейся потасовки, кумиру всех голодных студентов философского факультета вдребезги разбили очки, сместили коленную чашечку на правой ноге и понаделали предательских трещин в нескольких ребрах), и предполагалось, что там он задержится, к всеобщему унынию, как минимум недели на три. И, само собой, что при виде Андрюхи, из глотки голодного и несчастного Славы невольно вырвался первобытный вопль восторга, гулким эхом далеких неолитических времен заметавшийся по лестничным переходам и коридорам корпуса философского факультета.