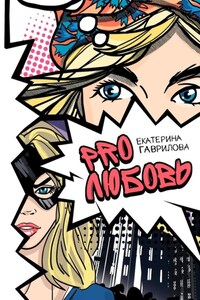ЛОБАЧЕВСКОГО, 12
Вот дом, что не меня короновал, –
всё старит Лобачевский переулок.
Под аркой шаг торжественен и гулок,
как некогда почившие слова
знакомых древнегреческих софистов.
Под рёв и сумасшествие их свиста
не я ли зданья вылепил овал,
а позже сам творенье не узнал?
Вот дворик, ускользающий во мглу,
со скрипом притворившийся до щели,
бессмертным изнывающим кощеем
качели сторожащий, как иглу,
что спрятана у первого подъезда, –
на кончике её трепещет бездна,
друзей перемоловшая в золу,
которых я уже не позову.
Вот свет из неумытого окна
почти не пробивается спросонок,
и силуэт в проёме невесомо
вытягивает в форточку луна,
заставленная облаком и ночью,
как я заставлен буреломом строчек.
Сажусь с бокалом терпкого вина
и сам себя выдумываю я…
ЛЯДСКОЙ САД
Мы выжили, спелись, срослись в естество
чернеющей в садике старой рябины;
глухой, искорёженный донельзя ствол
не выстрелит гроздью по вымокшим спинам,
плывущим к Державину, выполнить чтоб
в обнимку с поэтом плохой фотоснимок:
блестят провода и качается столб,
троллейбус искрит, перепутанный ими,
а ливень полощет у сосен бока
и треплет берёзы за ветхие косы,
газон, осушив над собой облака,
под коврик бухарский осокою косит,
и голос фонтана от капель дождя
включён, вовлечён в наше счастье людское…
и мальчик соседский, в столетья уйдя,
по лужам вбегает в усадьбу Лецкого.
ЛЕНИНСКИЙ САДИК
Оседлав пешеходную зебру и мчась на кусты,
заблудился в словах, что, как вечность, длинны и густы.
И горит в подреберье остывший до льдинки рубин
полноцветьем калины и сочностью зрелых рябин.
Придорожный октябрь – ты опять графоман и расист,
на берёзы мои чёрно-белые так голосист,
что срываются птицы, о лете не договорив,
в беспросветную бездну – лихой загрудинный обрыв.
Уходящему в день, отступившему к охре в пожар,
только руку кленовую мне остаётся пожать,
по аллее пройдя от листа до другого листа
и дождя валерьянку считая по каплям до ста.
Проглотив истекающей сини микстуру на сон,
я вернусь поутру, прихватив, как отважный Ясон,
весь словесный гербарий поэта – плута и вруна,
потому что тоска моя в цвет золотого руна.
КРУТУШКА
Где Казанка волной одичалою
в камышовой кайме берегов
шестилетнего манит учарова
на крючок нарыбачить улов;
там, где в песнь безымянного озера
от тарзанки срывается крик,
и в песочную воду бульдозером
зарывается детство на миг;
там, где тучами небо зашторили,
но в просвет пропустили грозу,
а потом на столбах санатория
растянули сушиться лазурь;
там, где шахматный конь полусъеденный
старичка вдруг в атаку понёс,
но в гамбит развернулся обеденный,
променяв перевес на овёс;
где к огням пионерского лагеря
навесной устремляется мост,
и коты под Котовского наголо
расчехляют зазубренный хвост;
в ярких отсветах солнца закатного,
подрезающих соснам верхи,
где был мамой и папой загадан я,
там теперь ворожу на стихи.
НА КАЗАНСКОМ БАЗАРЕ
Здесь, на базаре, в шум и гам,
Среди корзин
Проходит батюшка к рядам
И муэдзин.
Здесь пахнет квасом и халвой –
Ядрёный дух!
Мясник с утра над головой
Гоняет мух.
Здесь в тюбетейку льют рубли,
Звучит баян.
Хозяин, старенький Али,
Немного пьян.
Здесь на бухарские ковры
И местный кроль
Придут рязанские воры
«Сыграть гастроль».
Здесь, разложивши короба,
Людскую течь
Сзывает бойкая апа,
Мешая речь.
И нищий ветеран труда,
Держась, как принц,
Займёт полтинник навсегда
У продавщиц.
А за углом, проспав обед,
Колокола
Разбудят звоном минарет –
Споёт мулла.
ОЗЕРО КАБАН
Ощетинился волнами стрижеными
матёрый кабан-секач:
у Булака – артист камаловский,
у Кремля – циркач,
в междуречье казанском
фонтанов надевший хламиду,
омывающий Пирамиду.
Чрез Романовский перешеек
фонарём глядит
на Колхозный рынок,
Петропавловским князем,
Кул-шарифским шейхом.
Темноту икринок
разрывает свет с куполов голубых
и высоких башен, –
ах, израненный зверь,
до чего ж ты страшен!
От бензиновых выхлопов
дохнет свирепый рык
и святыми слезами небесными
переполнившийся арык –
человеков, заблудших в осиянии дня
(аж в трамваях тряских!), –
окропляет ряской.
И «Алтыном» впивается в небо
отблеск торговых рядов:
столько синего-синего хлеба
вековых городов
не увидит, пожалуй,
ни один гидролог-историк –
на клыках новостроек.
Не буди же гребками
старого славного вепря –
ты лишь жёлудь в плывущем свинце,
от июньского ветра
так случайно сорвавшийся
с ветки метро на «Кольце»…
ГОРОДСКОЙ ДИПТИХ
1. Парк Чёрное озеро
Живёшь и печёную осень
подносишь к измятым губам,
а жёлтое крошево сосен
бескрылым хранишь голубям.
Пройдя через Арку влюблённых,
спускаясь за дождичком вниз,
сквозь цепь искалеченных клёнов
ты озера видишь карниз.
И так обрываешься сердцем,
что с тяжким пакетом в руках
торопишься где-то усесться,
у парочки место украв.
Задумчиво и виновато
твой взгляд переулку открыт –
Пассажу киваешь приватно,
рассыпав по лавке дары.
И Чёрное озеро примет
(пока ты ещё не домок)
заветное тление «примы»
и пива ершистый дымок.
Вот так вот – сидишь на скамейке,
корнями ушедшей в погост,
а годы проносятся мельком
в аллеях, где ты произрос;
где бегал на лыжах и с горки
ледянками мучил асфальт,
где летом от корки до корки
читался мячами офсайд;
где в марте, отважный и робкий,
в стремнине коварного льда
на досках хоккейной коробки
ты плыл неизвестно куда…
Сидишь и под баночку пива
печёную осень жуёшь –
и вроде не так уж тоскливо,
и даже как будто живёшь.
2. Парк Горького
Крутнёшь колесо обозренья,
поставив мгновенья на чёт –
и выпадет день озаренья,
и сердце стихом пропечёт.
За корочкой тёплого неба,
упрямо карабкаясь ввысь,
ты колокол высмотри слепо
и словом его вдохновись.
Взмывай над тропою овражьей
и над стадионом Труда,
пиши, как заходится в раже
в разбитом фонтане вода,
о старой канатной дороге,
детьми изнуряющей пляж,
и летнем кафе на отроге,
взрезающем беличий кряж.
И пусть уничтожена местность,
но там, где аллеи свежи,
всё так же гранитно известный
солдат неизвестный лежит.
На вечном огне отогреешь
военную память отца
и горькие звёзды хореев
украдкой прогонишь с лица.
В захлёбе, мятущейся птицей,
в себе прорастив голоса,
захочешь на землю спуститься –
а нет под тобой колеса.
МИРУ – МИР
Миру – мир тебе, брат! – безмятежный скиталец весны:
прорастают вьетнамские лапти в бананы-штаны,
на измятой тельняшке горит пионерский значок, –
до ушей улыбается Лёша – смешной дурачок.
Выходя из буфета на млечный казанский простор,
он мычащие губы от крови томатной отёр
и, присев на скамью у обкомовских ёлок в тиши,
воробьиной семье бесконечную булку крошит.
Мимо оперных стен и ожившего вдруг Ильича
я на велике мчу, дяде Лёше дразнилку крича,
а в кармане звенят тридцать восемь копеек надежд
на берёзовый сок, два коржа и огромный элеш.
У продрогших витрин торможу через сколько-то лет –
за стеклом банкомат – не оплатишь обратный билет…
Будто в детстве, где целым богатством считался пломбир,
мне из окон глядит повзрослевший теперь «Миру-мир».